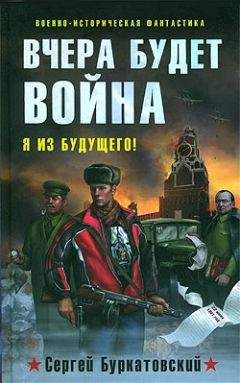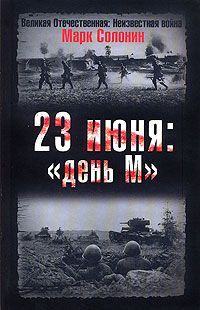Всеволод Бенигсен - Чакра Фролова
– Как же так? – произнес он, водворяя фуражку на место. – Выходит, немец сзади и немец спереди. Неужто и впрямь в тыл угодили? А, может, мы между частями оказались?
– Не могу знать, – честно рявкнул Захарченко.
Капитан издал какой-то глухой раздраженный рык.
– Будем прорываться! – прохрипел он и с остервенением стукнул кулаком по стволу стоящего рядом дуба. Потом почесал отбитый кулак и посмотрел на Захарченко.
– Постов-патрулей нет?
– Никак нет, товарищ капитан. Не видел.
– Как стемнеет, пойдем. А вам, боец Захарченко, объявляю благодарность. Свободны.
– Служу Советскому Союзу! – с усердием выкрикнул Захарченко и, развернувшись, пошел к остальным бойцам.
Капитан же склонился над картой и зашевелил губами, ища проклятое Невидово. Но на карте никакого Невидова и в помине не было. Криницын взял карандаш и нарисовал населенный пункт посреди болот.
«Как знать, – подумал он, – может, через это Невидово еще не раз проходить придется».
Глава 15
Студийная «эмка» неслась по лесу, подпрыгивая на корнях вековых деревьев.
– Не могу понять, – чертыхался Никитин, давя на газ и вцепившись в руль, который то и дело норовил выскользнуть из рук. – Заколдованный круг какой-то. Опять в Невидово дорога ведет! То его днем с огнем не найдешь, то как магнитом тянет.
– Оставь, – устало отмахнулся Фролов. – Ведет и ведет. Главное, в болото не угодить.
– Не угодим.
– Горючего-то хватит?
Никитин нервно посмотрел на прибор. Стрелка болталась где-то посередине.
– Полбака есть. И еще сзади канистра. Слушай, Александр Георгич… а если война, значит, и мобилизация будет.
– Значит, будет, – меланхолично ответил Фролов, который в очередной раз думал о Варе, а в таком состоянии и война казалась ему делом второстепенным.
Интересно, думал Фролов, если меня убьют на фронте, она будет плакать или нет? Всплакнет, наверное. Потом забудет. Тем более война, то да се. Не до сантиментов. А может, наоборот, – война пробудит в ней любовь.
В голову Фролову полезли пошлые сентиментальные картинки о том, как Варя находит его умирающим в каком-нибудь госпитале и выхаживает его. И они женятся. Или он приходит с фронта и звонит ей в дверь. Она открывает входную дверь и видит, что он на костылях. Нет, на костылях – это как-то мелко. С месяц попрыгает и перестанет. Делов-то. Лучше так. Она открывает дверь и видит, что у него нет ног. Нет, без ног – это перебор. Это все-таки полная инвалидность. Да и как-то совсем не героически. Она открывает дверь, а он почти на самом полу откуда-то снизу на нее смотрит. Жалкое зрелище. А если без одной ноги? Нет, все равно инвалидность. Всю жизнь с палочкой – как старик. А допустим, нет одного глаза? Нет, это как-то неприятно. Тем более потом ему вставят искусственный, а с искусственным глазом он будет косым, а значит, совсем непривлекательным. Лучше так: нет уха. Это не так заметно. Правда, и на полноценное сочувствие не потянет. Она ведь не сразу поймет, что у него уха нет. Придется специально повернуться к ней оторванным ухом. Да и мало ли одноухих. Ван Гог отрезал себе одно и ничего. Нет, лучше так. Он приходит с фронта, и она понимает, что того былого Фролова больше нет, потому что его душа умерла. Ну, или обожжена. Да, душа – это лучше. Душа это все-таки не физический дефект. В глаза не так бросается. Но дефект. Теперь Фролов циничен, жесток и небрит. И в глазах пустота. И ее признания в любви его не трогают, потому что после того, что он видел, все прочее – чепуха. И она понимает, что не ценила его тонкую душу, пока та была жива и светилась в его глазах. И тогда Варя начинает всеми доступными средствами лечить перебитые крылья его души. И вот в один прекрасный день они выходят вместе на улицу. Он идет хмурый, может, даже прихрамывает слегка. А на улице весна. Светит солнце, и поют птицы. Журчит вода меж проталин. И два голубя воркуют, сидя на водосточной трубе. И Фролов впервые за много месяцев улыбается. И Варя тоже улыбается. И обнимает его. Ну и дальше музыка, крупный план, отъезд с крана, общий план улицы и…
Тут Фролов пришпорил свое разыгравшееся воображение, с ужасом поняв, что только что нафантазировал целый фильм – причем с довольно пошлым финалом. Он даже вздрогнул. Но не от собственной придумки, а оттого, что на глазах у него выступили слезы, ибо в момент придумывания, то есть «просмотра» этой «киноленты», все ему казалось таким душераздирающе точным и глубоким.
Фролов вытряхнул из головы свою малохудожественную фантазию. Чушь, конечно. Ничего этого не будет, потому что Варе глубоко наплевать на Фролова. Он как-то ногу ушиб, так она по телефону поахала, а потом и говорит: «Ну тогда, конечно, не надо сегодня приходить. Зачем мучиться? Приходи, когда выздоровеешь». Нет, чтобы самой прийти, пожалеть.
Как-то раз в самом начале их отношений, когда они лежали в постели, утомленные любовными играми, он спросил у нее, будет ли ей его не хватать, если он, например, вдруг исчезнет. И тут же пожалел. Варя криво усмехнулась:
– Тебе правду сказать или соврать?
– Понятно, – ответил сквозь стиснутые зубы Фролов и подумал, а не встать ли ему и не уйти, обидевшись на такой встречный вопрос. Но не встал. Уже тогда чувствовал, что слишком зависим от Вари.
– Что тебе понятно?
– Понятно, потому что перед таким выбором ставят только идиотов («и только идиоты», – хотел он добавить, но сдержался).
– Почему?
– Ха! Правду или соврать! А какая разница-то? Ну, скажу: «Соври». Что изменится? Поменяем минус на плюс, и все дела.
– Ты прав, – легко согласилась Варя, видимо, закрыв тему.
– Одно утешает, – усмехнулся после паузы Фролов. – Раз ты предложила мне выбор, значит, у тебя есть ко мне хоть немного уважения. Или жалости. Кому-нибудь другому ты бы соврала без предварительных вопросов.
– И тут ты прав, – снова кивнула Варя. – Я люблю, когда ты прав.
Она попыталась любовно взъерошить ему волосы, но Фролов мотнул головой, увернувшись от Вариной пятерни.
– Лучше бы ты меня просто любила. Без «когда».
– И тут ты прав, – сказала Варя, но на этот раз признание его правоты оставило горькое послевкусие.
«А вот тут могла бы и промолчать», – с досадой подумал Фролов. Разозлившись, он неожиданно прижал Варю к себе и впился ей в губы, словно мстя ей за неуместную честность.
– Больно! – выкрикнула она, вырвавшись, и исподлобья посмотрела на Фролова, трогая пальцем вспухшую губу.
«Нет, не любит, – подумал Фролов с тоской и каким-то искренним удивлением. – Совсем не любит. И вряд ли ей будет меня когда-нибудь не хватать. Может, только самую малость. Как не хватает потерянной шляпки или забытых в трамвае перчаток. Досадная неприятность, не более».
Этот разговор повторялся потом много раз и в разных вариациях, но всякий раз в конце Фролов приходил к одному и тому же неутешительному выводу.
На самом деле вопрос «нехватки» волновал его гораздо больше, чем вопрос любви. И когда он впоследствии действительно исчезал (не звонил, не появлялся), то делал это вовсе не потому, что пытался забыть Варю или хотел насолить ей или проверить свои чувства, а потому, что его интересовала степень своей нужности для Вари. И, надо сказать, крайне болезненно переживал свою заменимость. Это, впрочем, касалось не только личных отношений. «У нас незаменимых нет», – доносился отовсюду суровый «афоризм» Сталина (хотя на самом деле им он никогда не произносился, а был всего лишь утрированной и быстро растиражированной услужливыми чиновниками выжимкой из его речи). Встречая этот расхожий оборот в газете, Фролов каждый раз мысленно содрогался. Словно Сталин сказал это конкретно о нем. Нет, Фролов не был чрезмерно самолюбив, но незамечание его отсутствия или присутствия в той или иной компании, обществе, коллективе его коробило. Как-то раз его коллега по работе на студии детских фильмов, встретив Фролова на лестнице, стал во всех подробностях рассказывать тому, как прошел день рождения их общего знакомого. Ужас заключался в том, что Фролов мало того, что сам был на том празднике, так еще и сидел рядом с этим самым коллегой и долго трепался с ним о кино и вообще об искусстве. Коллега же, услышав, что Фролов там был, немного смутился, но было видно, что он и вправду запамятовал присутствие последнего. Это легкое недоразумение выбило Фролова на несколько часов из колеи. Он бродил по коридорам студии, размышляя о причинах такого казуса, после чего спустился в гардероб, где долго пялился на свое отражение в зеркале, словно проверяя очевидность своего присутствия в этом мире. За этим занятием его застал местный остряк Шулевич, который, проходя мимо, ухмыльнулся:
– Что, Александр Георгич, смотришь? Пытаешься понять, почему женщинам не нравишься?
И залился квакающим смехом.
Шулевич был, по слухам, мужик неплохой, но Фролову отчаянно захотелось набить ему морду, потому что, во-первых, терпеть не мог плоский мужской юмор, тем более в таком панибратском оформлении – Шулевича он видел от силы раза три-четыре, это даже шапочным знакомством не назовешь, а во-вторых, Фролов женщинам вполне нравился, просто далеко не всем. Но главное…