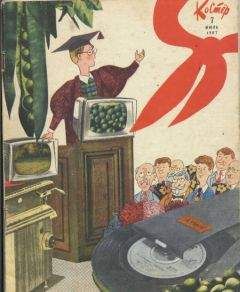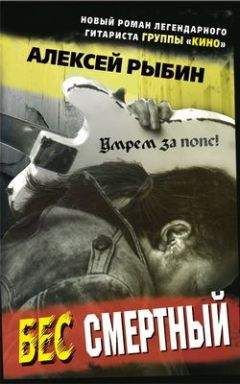Роман Сенчин - Зона затопления
– Что, Чернушечка, плохо одной? – спросила Ирина Викторовна. – Мне тоже плохо… Ну, потерпи, потерпи маленько… Помнишь, как одна тоже была? Что уж…
И курица ответила понимающе:
– У-у-к. – Шагнула к плошке, где была дроблёнка, сделала вид, что клюет; видно, показывала – ничего страшного, что одна.
– Водичка-то есть? Е-есть, – продолжала Ирина Викторовна, успокаивая курицу и успокаиваясь сама; достала из ящика с гнездом яичко. – Спасибо, Чернушечка… Ну, не скучай, ладно? Лампочку тебе оставлю пока, пускай светит…
«А чего я ее не выпускаю?» – удивилась.
– А иди-ка погуляй. Тепло, хорошо, солнышко… Иди погуляй.
Вывела Чернушку на задний двор, заперла калитку.
Курица как-то несмело, словно ожидая от хозяйки плохого, пошла по покрытой сухими травинками, камешками, щепками земле.
– Погуляй-погуляй, а я тебе счас травки свежей сорву.
Нашла у забора несколько полуживых лебедин, выдернула с корнем. Заметила в развороченной земле червяка. Подняла. Понесла Чернушке.
– Вот, потереби пока, – бросила траву, – а это деликатесик тебе. На, на, – поболтала червяком.
Курица подошла, покосилась на червячка и склюнула.
– Ну вот! И хорошо! Молодец.
Возвращаясь в избу, остановилась у чурки, под которой лежали куриные головы… Надо бы прибрать… Или так оставить, воронам? Чего теперь марафет наводить…
Но собрала головы в старый ковшик, отнесла на огород, вырыла тяпкой ямку, бросила, прикопала. Тяпку приставила к стене сарая. Обвела глазами освещенный заходящим солнцем сбоку и потому красивый и особенно печальный сейчас огород. Серое стало золотистым, водянистая зелень – сочной, свежей… Отвернулась, глотая слезы.
В ведре под скатом крыши обмыла топор, занесла на веранду. Отличный топор, сталь настоящая… Взять бы, только как его тащить? Да и зачем он в квартире на втором этаже?
Связала в узел клеенку с перьями. Постояла, напряженно размышляя, куда бы деть. Мучилась так, будто это самый важный вопрос сейчас. Куда? Отнесла в летнюю кухню, положила там, придавила зачем-то коробкой со старой, окаменевшей обувью. Пусть здесь…
Наконец, не найдя по дороге дел, добралась до избы. Посмотрела, сколько там на будильнике. Десять минут шестого. Вот и день прошел. Почти прошел последний день. Последний здесь…
Сложила остатки – а ее много осталось – печенки в тарелку, накрыла другой. Возьмет в клуб… Помыла посуду тщательно, расставила на решетку сушиться. Поискала, что еще отнести на посиделки… Да нечего. И не готовить же. Да и вряд ли будет там пир горой. Что уж…
Переоделась в выходное платье – старенькое, но крепкое, шерстяное. Причесала волосы, закрепила широким гребнем на затылке. Повязала платок с розовыми цветочками. Надела пальто. Туфли обувать не стала, неудобно в них, устают ноги быстро, – осталась в ботах.
Шла по широкой центральной улице и никак не могла поверить, представить, что очень скоро, может, и завтра, не будет уже этих крепких домов, амбаров-срубов, толстых и глухих заплотов, ворот с козырьками и кружевами резьбы, деревянных тротуаров, которые каждую весну тщательно ремонтировали… Исчезнет двухэтажная белёная школа с зеленой крышей, обитый вагонкой магазин «Северянка» с веселой вывеской «Работаем от сих до сих без выходных и проходных»… Убеждала себя, что все на свете кончается и вот пришел конец их деревне, но поверить не могла. Не принимали ни голова, ни сердце мысль, что от села, где почти четыре века жили люди, останутся сначала горки пепла, а потом, когда там, внизу, закроют путь реке, размоет эти горки запертая вода. И всё. Ни следа, ни метки…
Нет, нет, есть метка! Еще в прошлом году мужики сварили стелу, привинтили к ней табличку с выбитой надписью: «Здесь было село Пылёво. Основано в 1667 – затоплено в…» Дату не вписали, надеясь, что все-таки в последний момент затопление не произойдет… Этим августом втащили на самый высокий в округе бык, который, говорят, уцелеет, превратится в островок, укрепили там. Когда пойдет вода, приплывут, добьют четыре циферки.
Лет двадцать – сорок простоит эта стела, кто-нибудь станет за ней приглядывать. Но потом все-таки изржавеет, покосится, повалится, еще через какое-то время рассыплется рыжим прахом, затянет рыжину травой. И будет здесь дикое место. Дикое мертвое место над мертвой стоячей водой.
Улица была чистая, дома почти все целые – заходи и живи. Лишь окна прикрыты ставнями, а где ставней нет – щитами из досок. Казалось, на время хозяева отъехали, но вот-вот вернутся. Завтра, или через неделю, или весной. Вернутся, снимут щиты, помоют стекла, протопят печи…
Нет, не будет весны тут. Вот они – одна, другая, третья – надписи на воротах: «Прощай, отчий дом», «Не забудем Родину!», «Плачем и рыдаем»… Кладбище, кладбище. Погост.
Самое обидное, если возьмут и после всего заселят какими-нибудь зэками или китайцами. Объявят: «Расчеты ошибочны оказались, вода не добралась…» Нет, пусть тогда уж скорее сжигают, стирают с лица земли их Пылёво. Посадят их, оставшихся, на паром и – сотрут.
Многие мужики порывались сами сжечь свои дома. Алексей Михайлович уговорил не делать этого: «Пускай таким село останется в памяти».
И люди, уезжая, видели Пылёво целым, опрятным, с пестрыми наличниками, красными листьями черемух в палисадниках. Не так больно, наверно, чем когда дым, огонь…
Вот он и клуб. Стоит свеженький (стены красили каждую весну), большой, широкий. Его размер увеличивает не особо приметная, но все же значительная возвышенность. Рёлка. Раньше здесь была церковь, деревянная, из толстенных бревен. Ирина Викторовна с детства помнила ее закрытой, пустой, черной, напоминавшей молчаливую, закутанную по глаза платком волхитку с выселок.
В конце пятидесятых – когда опять стали строить новую жизнь и район наводнили приезжие, только теперь не ссыльные, не эвакуированные, как в войну и после войны, а добровольцы или распределенные, этакие бравые комсомольцы-горожане, – церковь решено было снести.
Снесли без сожаления, даже тогдашние бабушки не выступали против. Будто старый гнилой коровник убрали. Некоторые надеялись на клад, долго рылись в груде трухи, копали под церковью землю, но ничего не нашли.
За одно лето на месте церкви поднялся сруб клуба. Часть бревен пошла с церкви, часть привезли новых. Строили чуть ли не все мужчины села.
Клуб получился просторный. С залом на двести человек, где крутили кино и проводили собрания, с библиотекой, с фойе, где устраивали танцы и общие торжества. Расставляли тогда принесенные столы буквой «П», накрывали. А потом или веселились, или грустили, плакали.
Сейчас от «П» была лишь половина палочки – два стола, за которыми сидели пять человек.
Фёдоровна – самая старая жительница Пылева, – ей давно перевалило за восемьдесят, но держалась она молодцом, пласталась до сих пор на огороде целыми днями, память не теряла… Рядом с ней Ульяна, в нездешнего фасона – красном, без цветков – платке, и облика была не как большинство пылёвок – суховатая, узколицая. Через стул от старух устроились Мерзляков и Крикау. Обоим было под семьдесят, и оба всю жизнь враждовали или, в лучшем случае, годами не замечали друг друга, а вот теперь остались чуть ли не единственными мужиками в селе, и, чувствуя это, они хоть и не тепло, не дружески, но все же вгладь разговаривали:
– Глухов луг жалко. Какая трава там!
– Трава… А земля на огородах! Сами ведь чернозем сделали. Тут помял ее – масло ведь, а не земля.
– О-хо-хо-х… Я вот удивляюсь, как на ей еще растет чего.
– Почему это – удивляшься?
– Ну, столько поту в ей, соли…
Пятым за столами, напротив Мерзлякова и Крикау, – Леша Брюханов.
Ровесники Лешины уехали, уехал бы, наверно, и он, но на нем дизель – свет дает селу… Вот остановит завтра утром, сдаст или, может, так бросит свою технику и взойдет на паром.
Ирину Викторовну встретили хоть и радостно, но и вроде как с удивлением.
– А мы думам, не придешь, – сказала Фёдоровна.
– Ну, не дождетесь… Как же вы без меня-то? – Ирина Викторовна, улыбаясь, поставила на стол тарелку.
– Да многие отказалися. Боятся – сердце не выдержит… По избам прячутся.
– Ну и дела у всех, – оправдал непришедших Мерзляков. – Собираются.
– Мы уж давно все собранные, – вздохнула Фёдоровна.
– Это ты о смерти опять? – встрепенулась Ульяна. – Сама всех ругала, что поминают, а сама теперь…
– Теперь – можно. Когда родну деревню переживать, это хуже смерти.
– Верно, верно, – закивал Крикау, – хуже нет…
На столе была нехитрая еда: сало, соленые огурцы, поздние сморщенные помидорки, порезанный кусок вареной говядины. По центру стояли две непочатые бутылки водки и бутылка с чем-то оранжевым.
– А Зинаида где? – спросила Ирина Викторовна.
– Да, видать, потезенит всё, уговариват…
– Лишь бы что-нибудь с ней не случилось, – тихо сказала Ульяна. – Такие, кто бегает, они чаще всего…