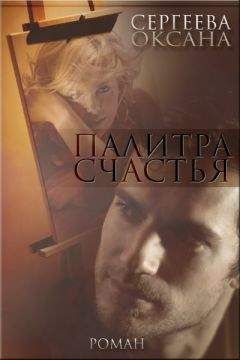Захар Прилепин - Обитель
– Я не нарочно! – с подсвистом сипел Филипп.
– Либо я тебя забью дрыном по голове и брошу в канал – либо встал и пошёл с письмом в монастырь! – с последней серьёзностью предложил Сорокин, яростно сжимая крепкую палку.
Артём очень внятно видел человека, готового к убийству и даже желающего его.
И Филипп встал.
Пень он сначала, шага три, нёс впереди живота – и уронил… взвалил на горб и с минуту шёл, далеко ступая здоровой ногой и очень мелко – ушибленной, натурально плача при этом… вскоре сам упал… дальше катил пень перед собой.
Вослед ему Артём не смотрел, слыша стенания и жалобу. Иногда Филипп вскрикивал так, словно его прокалывало насквозь раскалённой спицей, – наверное, когда неудачно ступал на покалеченную ногу.
Они закончили урок ещё позже, чем вчера: с конвойными десятник снова договорился. Зарабатывал себе условно-досрочное, скот.
– Я решил купить плеть, – сказал Артёму Афанасьев, когда они, дотащив последний балан, бессильно возвращались от лесопилки на помаргивающий костерок. – И знаю как.
Полуночный дождь гнал их до самого монастыря. Шли по щиколотку в грязи.
Видя мутные монастырские фонари, Артём чувствовал, что это не дождь бьёт его в затылок и плечи… а он тащит за собой дождь как огромную, полную ледяной и трепещущей рыбы сеть.
* * *Ночью в роте удавился заключённый из их взвода.
Всех подняли в начале пятого, едва дневальный обнаружил мертвяка.
Артём просыпался так, будто ему – как кость, с хрустом – сломали сон, и открытый перелом шёл через трещащий от боли череп.
…Ротное начальство суетилось: может, убийство. Но лагерники точно понимали, что нет – это был фитиль, доходяга, никому не интересный, он сидел четвёртый год, висело на нём пять, недавно отсидел в карцере десять суток, и это его доконало.
Разбуженный Кучерава пару раз рубанул дневального дрыном – что недоглядел. Чеченец таращил бешеные глаза, но у Кучеравы были ещё бешеней.
Мертвяк висел в дальнем углу, исхитрившись удавиться с краю нар, прицепив удавку к жердям третьего яруса. Петлю смастерил из рубахи, порвав её на длинные лоскуты.
Никто ничего не слышал. Лагерник на первом ярусе так и спал головой к ледяным ногам удавленника, пока не получил дрыном от Кучеравы.
Мертвяка ужасно материли за переломанный сон.
Дневальным велели снять труп – битый послушно полез и перерезал удавку, но принимали внизу всё равно те же фитили, что выносили парашу. Двое других чеченцев командовали и покрикивали.
Труп вынесли и положили на улице у входа.
Прибежала собака одного из лагерников по кличке Блэк, понюхала труп и села рядом. Во дворе ещё жил олень по прозвищу Мишка – но тот сегодня держался в отдалении, хотя по утрам, едва появлялись лагерники, сразу спешил к ним: бывало, кто и хлебом угощал, и даже сахарком – далеко не все сидельцы бедовали. Потом тех, кто ему давал сахара, Мишка легко находил в любой толкотне.
Встал Артём в состоянии почти алкогольного опьянения, не помня и десятой части из того, что случилось вчера, и очень медленно осознавая происходящее сегодня.
Он без толку побродил по трапезной, готовый заснуть прямо на ходу, а скорее, уже спящий.
Вышел на улицу, по дороге заметил, что Ксиву опять рвёт, и ничего не подумал по этому поводу.
Над трупом как-то особенно стервозно орали чайки, будто увидели вознёсшуюся душу, и она им не понравилась – её хотелось заклевать, как чужую, прокажённую, лишнюю в этом небе.
Когда одна из чаек стала снижаться, чтоб, кажется, усесться прямо на труп, вдруг с необычайной злобой залаял Блэк. Чайка рванула вверх, но обиду затаила. Спустя минуту уже несколько чаек кружило над Блэком, норовя пролететь над самой его башкой, – он сидел невозмутимо, как будто сам умел в любое мгновенье взлететь и порвать в воздухе кого угодно; только иногда поводил носом.
Плюнув кислой слюной себе под ноги, Артём вернулся в трапезную и влез обратно на своё место. Ему было муторно, зябко, предрвотно.
Одежда Артёма не высохла. Видимо, тело его не смогло за ночь дать нужного тепла. Наоборот, шинелька подмокла и непонятно отчего внутренняя ткань стала какой-то склизкой.
Подошёл Бурцев.
– Команды ложиться не было, – сказал он.
Артём открыл глаза, посмотрел на него, хотел было просительно улыбнуться, но не хватило сил, подумал дремотно: “Белогвардейская сволочь…” – и закрыл глаза: может, пропадёт.
И заснул.
Подъём всё равно был через четверть часа – но эти четверть часа в покое значили непомерно много. Ещё бы часов семь-десять, и совсем было бы хорошо.
* * *Первая мысль: неужели Бурцев пропал? Обиделся, интересно, или нет?
Вторая мысль: а был труп, нет, или приснился? Может, и Бурцев тогда приснился?
Труп лежал на месте. Блэк всё сторожил мёртвого. Чайки ходили неподалёку, косясь на недвижный человеческий глаз и дразнящийся язык.
– Ты помнишь, что я вчера сказал? – спросил Афанасьев у Артёма после завтрака.
Купить плеть, сплетовать – означало “побег”.
Артём ничего не ответил и даже не кивнул.
Они сидели на его нарах с кипятком в руках. Было только семь утра. Артём бесстыдно сколупывал вчерашнюю грязь с щиколоток. Афанасьеву было всё равно.
Минуту назад, перед тем как залезть наверх, он положил в протянутую руку живущего под нарами беспризорника мармеладку. Теперь два товарища со второго яруса смотрели, как рука вновь появилась. Некоторое время открытая грязная ладонь будто бы искала что-то – таким движеньем обычно пытаются определить, идёт дождь или нет. Больше мармеладок не выпало; рука исчезла.
Некоторое время молчали, тихо закисая от недосыпа.
– Отсюда не убегают, – сказал Артём, встряхиваясь.
– Убегают, – ответил Афанасьев, жёстко, по-мальчишески надавив на “г” в середине слова.
Ещё посидели.
Ни о каком побеге Артём даже думать не хотел.
– Ты вроде был иначе настроен к здешней жизни, – сказал он, еле справляясь языком с тяжёлыми словами.
– Дурак, Тёма? – прошипел Афанасьев. – То, что я могу выжить и здесь, не означает, что я буду тут жить… К тому же если остаться в двенадцатой – тут могут и уморить. Зимой уморят запросто.
– Ещё кипятка хочу, – сказал Артём, сползая с нар так, будто его всю ночь жевали и выплюнули, не дожевав.
Когда ставил консервную банку на свои нары, заметил, что рука от напряжения дрожит, – как же он теперь будет поднимать баланы, если пустую железяку едва держит.
Ещё надо было идти в сушилку, отнести вещи – у него были запасные штаны, имелся пиджак. Он переоделся в сухое и, невзирая на лето, влез в шинель.
– С тобой схожу, – сказал Афанасьев.
Сушилка была в восточной части кремля; обслуживала она в основном администрацию, но иногда работники, тоже из числа заключённых, могли смилостивиться и взять шмотьё у простых лагерников.
Прошли мимо удавленника, за своим разговором не посмотрев на него. Мёртвый язык, замеченный боковым зрением, еле тронул в Артёме человеческое, почти неосязаемо.
Если б Артём задумался об этом, он решил бы так: это же не человек лежит; потом: что человек – это вот он, идущий по земле, видящий, слышащий и разговаривающий, – а лежит нечто другое, к чему никакого сочувствия и быть не может.
Афанасьев всё пугал Артёма предстоящей зимой:
– …За невыполнение нормы раздели и оставили на морозе… Он и задубел. Это не “Я филон!” орать. И лежал за отхожим местом ледяной труп до самой весны, пока не начал оттаивать…
Артём вдруг вспомнил слова Василия Петровича, что в дневальные назначают только стукачей. Он же про Афанасьева говорил!
– К чему ты мне это рассказываешь? – перебил Афанасьева Артём.
Им навстречу из сушилки вышел хмурый чекист, и Афанасьев не ответил.
В сушилке уже стояло человек семь отсыревших бедолаг – причём несколько из них были по пояс голые: сменной одежды они не имели.
– Куда ты тянешь своё тряпьё, иди под жопой его суши! – надрывался приёмщик, наглая рожа.
Всё сразу стало ясно.
– Человек человеку – балан, – сказал Афанасьев на улице.
* * *В роте Бурцев бил китайца.
Китаец лежал на своих нарах и не хотел или не мог встать на работу.
Бурцев его стащил за шиворот.
Китаец не стоял на ногах, тогда Бурцев его бросил, но тут же склонился и начал неистово трясти за грудки, выкрикивая каким-то незнакомым Артёму, болезненно резким голосом:
– Встать! Встать! Встать!
Это “встать!” звучало, как будто раз за разом остервенело захлопывали крышку пианино.
“Вот ведь как… – вяло размышлял Артём. – Подумать-то: всего лишь отделённый. И такое. А мог бы и со мной такое проделать?”
Появился откуда-то Василий Петрович, весь, как курица, взъерошенный то ли от ужаса, то ли от удивления.
– Мстислав! – всё повторял он. – Мстислав!
“Кто у нас Мстислав?” – никак не мог понять Артём: отчего-то он никогда не слышал, чтоб кто-то называл Бурцева по имени.