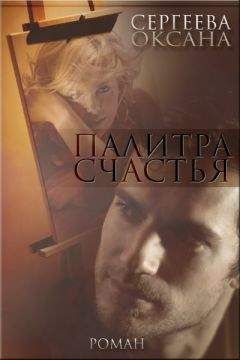Захар Прилепин - Обитель
Но хитрый Ксива так и не отдал дрын, сколько Сорокин ни орал.
Наоравшись, десятник ушёл перекурить с конвойными. А потом и вовсе все трое отправились куда-то: наверное, за ягодами. На прощанье Сорокин крикнул, что сегодняшний урок уже сто пятьдесят баланов – полтинник накинули за дрын.
– А тут, даже если по двести, – ещё на неделю трудов, – прикинул Лажечников, из-под руки осмотрев канал.
– Ксива, бля, тебя утопить мало, – заругался Афанасьев, без особого, впрочем, задора.
Артём снова удивился: Афанасьев мог позволить себе говорить с блатным таким тоном. Мало того, Ксива ему вполне приветливо ответил:
– Да пошёл ты, Афанас. Иди в зубах ему дрын отнеси. Вон как твой дружок вчера.
Артём, хоть и стоял в воде, а почувствовал, что его внутренности будто облили чем-то горячим, липким, стыдным. Деваться было уже некуда.
– Ты, блатной! – выкрикнул Артём, и крепость собственного голоса его самого же возбудила и поддержала. – Пасть свою зашей!
Отталкиваясь от баланов, Артём пошёл, стараясь делать это как можно быстрей, по направлению к Ксиве.
– Вы чё, хорош, – искренне засмеялся Афанасьев.
– Э, фраер, иди ко мне, – позвал Ксива Артёма, которому и так оставалось два шага; Артём изловчился и вдруг пробил правой прямой замечательно длинный удар Ксиве в лоб, да так точно, что голова его сначала, рискуя сломать шейные позвонки, резко шатнулась назад, а потом он всем телом завалился вперёд – благо что на балан, а то бы под воду ушёл.
Двое других блатных рванулись было на помощь, но тут влез Афанасьев:
– Их разборка! Их разговор! Двое говорят – остальные стоят!
Ксиву приподняли с балана, он вращал глазами и даже разговаривать не мог какое-то время, только взмыкивал.
Лагерники молча работали. Лажечников хмурился. Сивцев часто шмыгал носом. Китаец привычно находился где-то глубоко внутри себя. Моисей Соломонович занимал всегда такое место, чтоб оказаться равно далёким от любой опасности. Филипп, кряхтя и бормоча, бегал вдоль воды, как будто оттуда должна была вот-вот выпрыгнуть ему прямо в руки большая рыба.
У Артёма всё одновременно дрожало и ликовало внутри.
Сплюнув, он вернулся ворочать баланы к Афанасьеву – весело-удивлённому, но и несколько озадаченному при этом.
Артём покусывал губы и старался не слишком коситься на Ксиву, но всё равно чуть болезненно прислушивался: не начнёт ли тот снова хамить.
Время от времени Артёму приходилось драться. Он не был к этому склонен, однако драться умел неплохо: надо было только переломить в себе врождённое нежелание ударить человека по беззащитному и ранимому лицу – а дальше всё получалось само собою.
Блатные, выведя Ксиву не берег, покрутились возле, предлагая помощь… кажется, он на них шикнул, и они снова зашли в воду.
– Неплохо, неплохо, – сказал Афанасьев, всё ещё улыбаясь.
Приятное тщеславие понуждало Артёма выказать свою невозмутимость. Для этого лучше всего подходило молчание.
– Стихов бы, что ли, почитал, – предложил он спустя несколько минут.
Афанасьев задумался, будто решая, говорить всерьёз или нет, а потом ответил очень серьёзно:
– Своих я ещё тут не написал, а прежние не считаются. И чужих не хочу. Буду здесь без стихов жить, как без женщины. Потом слаще окажется попробовать.
И тут же перевёл тему:
– Тёма, что ты хватаешься за самые тяжёлые брёвна, я не пойму. Сил до хрена, я увидел. Ну так побереги их. Выбирай хлысты – тонкие, худые баланы. Это девок надо выбирать помягче, тут-то… зачем…
Десятник вернулся неприметно, наверное, ещё издалека приметил филонящего Ксиву и путь от перелеска проделал едва ли не скоком. В руке у него был новый дрын.
Определённо, у Ксивы сегодня был тяжёлый день: пока он добежал до воды, ему досталось раз десять по хребту.
Работал он после этого как в полуобмороке, а ближе к обеду его вдруг прямо в воде вырвало. Слюнявая нить свисала с отвисшей губы, пока не вытер, озираясь дурными глазами.
Вся эта хлебная слизь и непереваренная каша раскачивались некоторое время на поверхности.
В какой-то момент Артём осознал, что не осталось и толики гордости за свою короткую и очевидную победу – не потому, что Ксива еле передвигался, весь сонный и скисший, а потому, что день нынешний оказался ещё трудней, чем вчерашний.
И баланы за ночь стали будто тяжелее, и ветер ещё более назойливым, и комарьё даже на ветру не пропадало.
– Раз вы такой стаей летаете туда-сюда, дотащили б до лесопилки, – ругался на комаров Афанасьев.
Вообще Афанасьев всё больше нравился Артёму – он бы подумал об этом серьёзнее, когда б не разноцветные звёзды, пляшущие в глазах.
Откуда-то издалека раздавался рёв десятника Сорокина – тот снова наказывал потешного Филиппка за отсутствие сил и воли к работе.
Филипп сам предложил поорать про филона, хотя, признаться, голос его сел совсем.
– Слыхали? – обратился десятник к конвойным. – Он опять хочет орать про филона, а не работать!
Конвойные смеялись; Филиппа ещё раз, сбив на землю, поучили дрыном, он вскрикивал и безуспешно пытался уползти.
Сегодня Артёму и в голову не пришло бы за него вступаться. Вчерашний свой поступок он не понимал вообще и объяснить бы при всём желании не сумел.
Подступало тихое помутнение.
Артём медленно повторял, часто смаргивая: вот плавают звёзды перед глазами, вот плавают, вот плавают, а если их выловить, а если их выловить и сварить.
И представлялся суп – позолоченный, ароматный, источающий нежнейший дух.
Понемногу начало накрапывать прямо в суп, а потом как надорвалось – грянул оглушительный ливень, пузырящийся, шумный, толкотливый.
Било по мозгам так, что звенело и бурлыкало в голове.
Артём чувствовал озноб, сделавший руки негнущимися, движения – тупыми, пальцы – деревянными.
В воде оказалось лучше, чем на суше, – и все, кроме Филиппа, залезли в канал, стояли там меж пузырей, в угаре и грохоте дождя.
Десятник и конвойные сразу убежали поближе к деревьям и пережидали там, покуривая.
Филипп, приговаривая что-то, ходил туда и сюда по берегу, словно искал посреди дождя место, где не каплет.
Дождь шёл минут десять и разогнал комарьё.
Но не успела рассеяться последождевая морось, как по одному, неистово пища, начали возвращаться комары.
“Нет бы ливень прошёл огненный, раскалённый”, – мечтал Артём.
Дорога до лесопилки и назад больше не согревала. Зато пятки едва чувствовали боль, и Артём наступал на камни, ветки, шишки с некоторым даже озлоблением.
Филипп работал теперь в паре с невысоким, хоть и втрое шире его Лажечниковым.
Уже вечерело, когда непрестанно что-то шепчущий Филиппок вдруг притих; минут несколько вёл себя настороженно и странно.
Артём с Афанасьевым подавали, кряхтя и клекоча, очередной особенно тяжкий балан из воды – и Филипп вдруг на глазах у Артёма исхитрился и – явно с задумкой – сбросил руки. Лажечников пытался удержать балан – но куда там. Балан мощно тюкнул концом ровно по ноге Филиппа.
– Эй! Ты что? – вырвалось у Артёма.
– Ай! – заорал Филипп. – Ай! – он ещё хотел прокричать заготовленное “Выронил!”, но боль, видимо, оказалась такой настоящей, что его хватало только на “Выр! Выр! Выра!..”
Афанасьев и Артём тоже сбросили свой конец и стояли не шевелясь.
Только Лажечников, ничего не понявший, приговаривал, безуспешно пытаясь рассмотреть ушиб:
– Не то поломал?
Появившийся десятник, вообще не раздумывая, взял Филиппа за волосы и поволок – не куда-то и с определённой целью, а просто от бешенства, – и волочил кругами, пока кудрявый клок так и не остался зажатым в кулаке.
– Сука шакалья! – орал Сорокин. – Кого ты хотел обмануть? Я таких сук имею право удавить лично! Всем саморубам и самоломам положена смерть! Ты сдохнешь сейчас!
Артём, безвольный и глухой, прошёл к еле живому костерку, который разожгли только что конвойные.
Он был совершенно уверен, что Филиппа сейчас не станет.
Моисей Соломонович громко вздыхал. Артёму почему-то показалось, что тот молится.
Назабавившись и оставив Филиппа на земле, десятник Сорокин тоже направился к костру – бросил в огонь клок волос, которые так и держал в руке, и скомандовал: “Ну-ка все на хер в воду!”
– Не убей меня! – снова вскрикивал Филипп срывающимся, будто не находящим себе пути в надорванной глотке голосом.
Что-то придумавший Сорокин позвал блатных – и вскоре они откуда-то прикатили здоровый, пуда на полтора пень.
Подсушив пень на костре, Сорокин, вслух произнося записываемое, вывел карандашом: “Предъявитель сего Филон Паразитович Самоломов направляется на перевязку ноги. После перевязки прошу вернуть на баланы для окончания урока”.
Конвойные хохотали – причём у Артёма было твёрдое чувство, что всё это уже когда-то было и теперь, только громче и назойливее, повторялось.
– Подымайся, шакал! – крикнул, завершив труды свои, Сорокин. – Думаешь, ты не сможешь работать на одной ноге? Сможешь! Сможешь вообще без ног, йодом в рот мазанный!