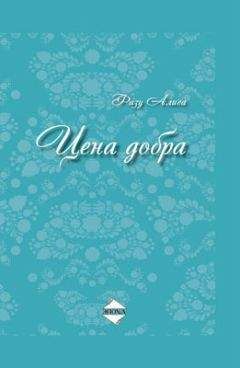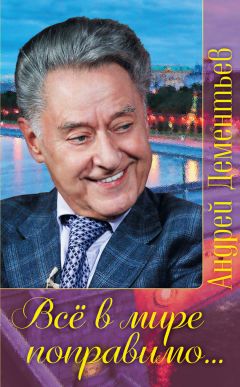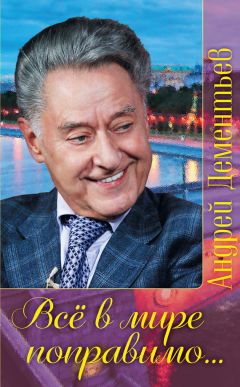Мария Голованивская - Нора Баржес
Аня чавкала жвачкой. Нора по-прежнему разглядывала коленки и сапоги, сличала что-то в биографии, топографии, географии. Кстати, – вдруг проговорила она, не поднимая глаз от работы, – ты не хочешь поехать пожить к Кремерам в Италию, поучиться там, поучить язык? По-моему, для тебя отличная возможность.
Аня на всякий случай обиделась. Спросила, не разводятся ли они с папой. Когда голос Норы сделался тоненьким, она тут же осеклась, протараторила: «Мамочка, ну ты же знаешь, как я тебя люблю» – и помчалась телефонно обсуждать перспективу с подружками и друзьями.
Вернулся Павел. Шумно поел на кухне, погорланил о чем-то с домработницей. Кажется, обсуждали, как готовятся пельмени и вареники. С хохотом, раблезианским весельем, любовью к жизни.
Нора одевается в спальне. Красивую черную кашемировую кофту, узкую асимметричную юбку, сапоги. Кожи, ласкающие плоть. Через час они ужинают с Риточкой в новом прозрачном ресторане у воды, в полумраке, под колыхание свечного пламени.
Она стакивается с Павлом в коридоре. Он идет в кабинет, смотреть новости.
Куда ты?
Звонила Нина Кремер, предлагает забрать Анюту на год в Палермо. Отдаст ее в школу. Идеальный вариант. Поучится языка, наберется впечатлений, расстанется с дурной компанией. Я Нине доверяю.
Я уже договорился об этом с Павлом. А ты куда?
Он стоял перед ней расстроенный, сдувшийся, как будто сжавшийся в комок.
Неужели даже теперь ты продолжаешь?
Ты хочешь сказать, что мне почему-то нельзя пойти с подругой в кафе?
С подругой? В кафе?
Она проскользнула мимо, пронеслась черной стрелкой, они сели с Риточкой за столик у окна, глядели на замерзшую реку и пролетающие по набережной автомобили, на столе у них в стакане из тонкого стекла цвели крокусы, а на тарелках дымился розовый парной лосось, с ниточкой укропа и островками малахитового пюре из шпината. Она пили нежный херес из запотевших бокалов, и Нора утекала куда-то от радости, скользила глазами по рыжим пружинкам Риточкиных волос, проникала вглубь ореховых глаз.
Они говорили обо всем: о риточкиных знакомцах, которых она описывала весело и талантливо, о промелькнувших новогодних елках, где было столько смешного и нелепого, о норином Врубеле, об Анюте, отбившейся от рук, о Павле, внезапно словно затаившемся перед решительным прыжком.
С Риточкой Нора говорила будто бы на другом языке. Никакое из событий на этом языке не выражалось тяжело или обреченно, все представлялось, благодаря его иному синтаксису и грамматике, естественным, проходящим, наделенным еще и иным, очень важным и значимым смыслом. Все, что происходило в их жизнях, было непременно «хорошо», даже «замечательно», с точки зрения этого особенного зашифрованного языкового кода, и они радовались, разучивая его на два голоса.
А как ты думаешь, – спросила Норочка, глотая последнюю каплю лимонного сорбета и запивая его прекраснейшим кальвадосом, – как ты думаешь, люди, когда умирают, там, на небе встречаются с Богом?
Ну, конечно, – ничуть не раздумывая, улыбнулась Риточка, – в этом главное удовольствие умершего и вообще единственный способ увидеться с нашим Папой. Он объясняет каждому его ошибки и открывает тайны, без которых нельзя было правильно решить многие задачки.
Нора углубилась в задумчивость, которую прервало ощущение тепла на ее всегда ледяной руке – Риточка опустила поверх свою невесомую ладошку.
Ну что ты, Норочка, это ведь все такой кайф.
Они вышли на холодную набережную за полночь, Риточка отвезла Нору домой, и они еще долго сидели в машине около подъезда.
Ты не боишься, что нас увидит твой красавец-муж? – хихикнула Риточка.
Они держались за руки, потом страстно обнялись и долго еще шептались.
Ты напишешь мне перед сном? – спросила Нора.
Конечно.
Павел ждал ее на кухне.
Почему под окнами? – спокойно спросил он.
О чем ты? – удивилась Нора.
Ты психически больна, – спокойно проговорил Павел, – я лишу тебя родительских прав.
Нора сделала вид, что не расслышала.
Как время-то провела? – ернически выкрикнул он ей вслед.
И правда, – подумала Нора, – что же мы делали с Риточкой последние семь часов?
Как ни старалась она вспомнить, она не помнила.
Эти дни он жил странно. Как будто отчего-то грустил, но, поскольку грусть не была ему свойственна, он воспринимал это состояние то как начало гриппа, то как начало гипертонии, то как проявление плохого пищеварения. При его отменном здоровье – главной гордости покойной мамы Розы – мысли о начале болезни вызывали в нем панику, близкую к помешательству. Он пил шипучие, пахнущие лимоном горячие растворы, травы от желудка, он изучал симптомы и проявления тайного недуга, даже не догадываясь о том, что это заурядная, просто неведомая ему доселе грусть, случающаяся у мужчин после сорока от плохого прогноза относительно какой-нибудь важного обстоятельства.
Однажды он даже заподозрил, что болен страшно. Открыл утром глаза, оглядел люстру из венецианского стекла, книжные полки – уже полгода он изредка ночевал в кабинете на диване. Что-то кольнуло в боку, потом в животе. Он потрогал свой голый живот, попытался согнуть ногу в колене и почему-то не смог. С трудом он сел на край дивана. Уставился в круги, что стали расплываться перед глазами, помотал закружившейся головой.
Показалось, что какие-то чудовища проросли и зашевелились в нем. Темные, скользкие, гадкие. Они хозяйничали внутри его тонкой оболочки, как в страшенной голливудской фильме, и он ощутил, сидя тогда на краешке, что для того и живет, таская ноги по белу свету, чтобы кормить их собой. Теперь уж они точно дожрут его без остатка, и так случится из-за Норы, которая, приглядитесь, и есть одно из этих чудовищ – такая скользкая змейка внутри. Она больнее всего жалит – то в прекрасную нежную почку, то в алое сердце, то в зеленую селезенку.
Он просыпался рано, так случалось с ним всегда, когда внутри шла неслышная напряженная работа главных шестерней. «Так – не так, так – не так», – тикали невидимые часы внутри него, обкатывая какой-то до конца не ведомый ему самому план. Что с Анютой? Отправить ее к Кремерам в Италию? Нина извлечет ей мозг занудством, Петр намусорит в ее душе чудачествами творческого человека. Станет есть яйца вместе со скорлупой или вращать по-совиному глазами.
Но главное даже не в этом. Что он ответит ей, когда впоследствии – а этот момент настанет обязательно – дочка станет попрекать его, винить, что в решительный момент жизни он отдал ее чужим людям?
Буквально: «Когда ты был мне больше всего нужен, ты отправил меня жить к чужим людям. Так чего же ты теперь хочешь от меня???» Он не хотел быть виноватым отцом. Неряшливым папашей. Он хотел быть блестящим родителем, сиять отцовством, как сияют могуществом, полнотой власти, богатством, скопленным за жизнь. А Нора? Как наказать ее? Не разбираться, а наказать?
Он боялся своего здоровья, черных дыр внутри себя, куда могла заползти гадина, и решал задачки. Наказать Нору, не затронув Ани. Если он обозначит другую женщину, это ударит по Ане, ей хватит и нориных выкрутасов. Может быть, принести ей какую-то иную боль? Оклеветать на работе, опорочить профессиональную репутацию? В предрассветной мгле он беспомощно грезил о том, как могущественный коллекционер в подозрении станет пытать ее скальпелем в сумрачном подземелье своей резиденции. Его охранники довершат дело, его пресс-аташе ославит ее до конца дней перед газетами и журналами, где будут печататься крупные фотографии «плохой Норы». Его советчики порекомендуют ему яд для Норы, его любовница выдерет ей патлы и ударит шпилькой в карий с синими подтеками глаз. Так он ненавидел ее. И ненависть длилась до пронзительной утренней мысли: может быть, убить ее самому? Подойти, накрыть подушкой, подкупить впоследствии дознание?..
После таких мыслей он был раздражителен и сварлив все утро, словно прибавлял себе десяток лет. Он проклинал свой послушный автомобиль за то, что тот не слишком проворно распахивал промерзшую дверцу, он ненавидел кофеварку за то, что она слишком услужливо шипела, выдыхая ароматный пар. Он отчитывал секретаршу за то, что она, подавая документы, смотрит или не смотрит ему в глаза, управляющих – за то, что они нерасторопно и тугоумно управляют серыми, как осенний туман, учеными, без мозга и воображения в черепах.
С Норой он виделся мельком и зло. Вот они сталкиваются утром в кухне, она курит и пьет чай. Он выходит в халате, нажимает на кнопку лебезящей кофеварки. Опрокидывает чашку. Она не реагирует. Он выходит на работу, галстук, костюм, портфель ищет, забывает, мнет, роняет, а она идет в ванную комнату, словно по красной ковровой дорожке каннского фестиваля, не видя никого и только щурясь от слишком яркого света аккредитованных вспышек. Он отпускает недовольную реплику. Она автоматическим движением поправляет ему что-нибудь из одежды. Он морщится. Кто-то звонит ей на городской телефон вечером, он берет трубку. Потом кричит злобно, подзывает, зная, что она очень не любит такие манеры. Она заходит к нему в кабинет с вопросом, он не отрывает головы от газеты.