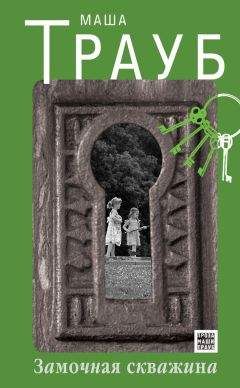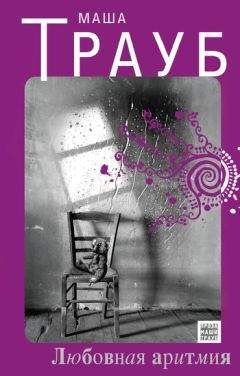Маша Трауб - Падшая женщина
Потом появилась и еще одна проблема – старший брат стал пить и задерживал заказы, не привозил камни вовремя. Раевский-младший успокаивал людей как мог. А мог он только пообещать сделать самую красивую надпись по самой низкой цене. И заказчики соглашались подождать. Ради портрета, который получится «как живой». Ради ангела на могиле, который будет парить на своих почти прозрачных крыльях.
Давид не стал ждать камня, даже ради красивой надписи. Он поехал в соседний поселок и заказал обычный камень с самой обычной надписью. Только некоторые из родственников, возмутившихся в едином порыве, сочтя этот поступок вызывающим, неприличным и даже непозволительным, признавали, что камень ничуть не хуже, чем от Раевского-старшего, и надпись не уступает мастерству Раевского-младшего. Почти не уступает. И выглядит достойно. Да и кто будет приглядываться к надписям на кладбище, если уж совсем честно говорить? Но молва разлетелась по ветру, который здесь был на удивление сильным, с порывами, пронизывающими до костей, и утихающим так же внезапно, как и появляющимся. Давида осудили по молчаливому сговору и близкие, и соседи, а Раевский-старший не здоровался с ним при встрече. Только Раевский-младший украдкой кивал, чувствуя и признавая свою вину. Давид кивал ему в ответ, давая понять, что не в обиде, что все понимает. И слова им были не нужны.
– Я с ним за одной партой сидел, – сказал Давид.
– С младшим братом? – удивилась Вика.
– Да. Он так подпись моей мамы подделывал, что никто не догадывался. И рисовал в тетрадке на уроках. Мы были друзьями.
– Тогда почему так все получилось?
Давид пожал плечами.
Они дошли до гостиницы, Вика опять предъявила карточку гостя, оставив Давида любоваться закатом. В номере она рухнула на кровать и уснула, не зная, что ее ждет завтра, но с твердым намерением позвонить бабуле и все выяснить.
Утром в столовой она не без удовольствия съела творожную запеканку со сметаной и выпила какао с пенкой – его можно было налить самостоятельно. На столе стояла огромная кастрюля. Половник болтался на ручке.
После завтрака Вика вышла на балкон и долго сидела на стуле, глядя вдаль, в небо, на горы, казавшиеся совсем близкими – только руку протяни. Она хотела просидеть так весь день. Почему-то сегодня с раннего утра на нее накатила такая усталость, такое равнодушие, что не было никаких сил спускаться вниз, куда-то ехать, идти. Вика решила вернуться в номер – почитать, посмотреть телевизор, поспать. Дождаться обратного рейса и вернуться, забыв обо всем, что произошло здесь. От вчерашней решимости разобраться в старых тайнах ничего не осталось. Навалилась только тяжесть в мышцах – не хотелось ни ходить, ни сидеть, ни стоять. Только лежать, глядя в одну точку в потолке или в страницу книги, не читая, не думая. Вика дошла до номера, но успела только разуться, как в дверь постучали.
– Вы что – не ушли? Почему? – удивленно спросила дежурная по этажу, которая держала ведро и комплект чистых полотенец.
– Не ушла, – ответила Вика.
– А как мне убирать? Мне нужно сейчас, потом еще три номера. А полотенца тебе менять или еще нормальные?
– Я не собиралась выходить. Полотенца можно не менять.
– Так пора уже. Я все-таки поменяю. А тебе нужно уйти. Мне неудобно будет.
– Хорошо, я спущусь вниз, выпью кофе. – Вика решила не спорить с дежурной.
Взяла сумку и спустилась вниз. И почти не удивилась, увидев за одним из столиков женщину с кладбища, которую бабуля называла Лариской. Вика посмотрела на улицу – Давид стоял на своем обычном месте. Видимо, он и привез сюда Ларису и ждет, чтобы отвезти ее назад. «Женщина с кладбища», как мысленно называла ее Вика, сидела и смотрела по сторонам, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Она была одета в черное, с покрытой головой.
Вика не переставала удивляться такому сочетанию даже не традиций, а ведомых только местным жителям принципов – на улицах этого города можно было увидеть женщин чуть ли не в хиджабах. Они были замотаны в платки, на ногах, несмотря на жару, – черные плотные колготки. И здесь же по набережной гуляли девушки в мини-юбках, в прозрачных футболках или сильно декольтированных платьях. И нельзя было однозначно сказать, что было более уместным. Вика засыпала под пение муэдзина – мечеть стояла рядом с гостиницей. Ее дед был похоронен на мусульманском кладбище. Но по соседству, буквально на соседней улице, стоял православный храм, куда спешили дети и женщины с яркими, украшенными по-праздничному корзинками – была Пасха, нужно было освятить куличи и яйца. В церковь при мужском монастыре приезжали помолиться женщины. А вода из речки с высоким содержанием сероводорода считалась не менее, а то и более целебной, чем святая. Здесь действовали другие законы – слухи, разговоры, репутация значили куда больше, чем то, что люди видели собственными глазами и слышали собственными ушами. Так, слова Захарова – уважаемого человека – были весомее, чем истинная история. Но закрытость, замкнутость местного мирка, куда вход посторонним был строго воспрещен, иногда давала трещину. Иначе зачем здесь сидит эта женщина, – под внешней сдержанностью и холодностью прячущая страх и волнение.
– Здравствуйте. – Вика нашла в себе силы подойти к ней, хотя первым порывом было кинуться к Давиду и попросить увезти ее куда угодно, лишь бы подальше отсюда.
Женщина кивнула, вмиг подобравшись, вздернув подбородок и поджав губы.
– Вы меня ждете? – спросила Вика, тут же почувствовав, что вопрос был бестактным.
– Нет, просто по делам приехала, – ответила женщина.
– Вы Лариса? Простите, не знаю вашего отчества. – Вика старалась быть вежливой.
– Можно просто по имени, меня все так называют, – ответила женщина.
– Меня Вика зовут. Очень приятно, – сказала Вика, хотя ей было страшно, неловко, но только не «приятно».
– Я – Захарова. Дмитрий Иванович – мой муж, – сказала женщина, как будто выдохнула или выплюнула признание.
– Понятно, – ответила Вика, хотя ничего не поняла. Эта женщина – жена того самого Захарова? Тогда зачем она приехала?
– Я хотела все рассказать. Лучше я, чем он, – сказала Лариса.
Вика подозвала официантку и заказала кофе. Воспользовавшись моментом, она смогла рассмотреть эту женщину. Да, она была младше бабули. Лет на десять, наверное. Сейчас это было заметно.
Официантка принесла кофе.
– Вы знали моего деда и бабулю, – сказала Вика утвердительно, поскольку Лариса молчала.
– Да, – ответила та. К кофе она не притронулась.
– Это вы сажаете анютины глазки на могилу деда.
– Да, это я. – Лариса как будто даже смутилась, что позволила себе непозволительную дерзость.
– Бабуля мне ничего не рассказывает. Говорит, что не нужно, – сделала еще одну попытку начать разговор Вика.
Женщина кивнула. Вика допила кофе, но женщина продолжала молчать.
– Наверное, я поеду, – вдруг сказала она, поднимаясь.
– Тогда зачем вы приезжали? – Вика даже рассердилась.
– Правильно, – согласилась женщина, снова присаживаясь на стул, – я приехала, чтобы рассказать.
Лариса говорила так быстро, словно боялась забыть слова. Вика чувствовала, что женщине физически плохо и слова даются ей с большим трудом, через силу. Она говорила так, как будто ее заставляли. Хотя все могло объясняться просто – дома ее ждали дела и внуки и нужно было побыстрее вернуться, чтобы никто не заметил ее отсутствия. В том, что Лариса никому не сказала, куда едет, Вика не сомневалась – женщина нервничала и то и дело оглядывалась.
– Я лежала в психбольнице, в психушке, – сказала Лариса, и Вика онемела. Совсем не такого начала она ожидала. – Меня кололи. Постоянно. Мне было все время больно. Так больно, что я до сих пор все чувствую и помню. Каждый прожитый там день. Сейчас я не могу спать – боюсь, что снова проснусь там, на той кровати, привязанная простынями, и все повторится. Могу спать только днем, в обед. Спокойнее себя чувствую. Отсыпаюсь немножко, а по ночам мучаюсь. Голова очень сильно болит. Вот, на кладбище по ночам ходила. Сначала просто по поселку бродила, а ноги меня сами на кладбище вели. Все в поселке знали, что я туда хожу, но не осуждали, даже жалели – думали, головой тронулась. Но у нас люди хорошие, только с виду такие неприветливые. А так ничего, как везде, как все. Только правило есть – из дома сора не выносить, чтобы все проблемы в его стенах оставались. Не любят у нас, когда откровенно говорят то, что думают. А женщине уж тем более нельзя. Лучше вообще виду не показывать. Нельзя чувствовать. Нужно работать, а чувствовать нельзя. А я не могу себя сдерживать. Слишком эмоциональная, наверное. У нас это считается вроде как недостатком, даже пороком. Я ж не это хотела рассказать. Да, там, на могиле Петра, твоего деда, еще два дерева росли, я их спилила. Я бы убрала, но боялась, что люди заметят и говорить начнут, сплетни опять пойдут. Вот, столько лет прошло, я уже старая, седая совсем, а все равно боюсь. Страх остался. Понимаешь, каково это – бояться убрать могилу, позаботиться о месте захоронения? – Лариса посмотрела на Вику, ожидая понимания. – Я виновата перед тобой, перед бабушкой твоей, перед Петром. Во всем виновата. Даже в память о нем не смогла страх свой пересилить. И мужа боялась… Я не хотела назад, туда, в психушку. Понимаешь? Скажи, что ты понимаешь! Но плиту видно, и надпись тоже, и портрет его, правда? Я старалась, чтобы камень был виден с дороги. А вьюн специально не стала убирать – Петя вьюны очень любил. Особенно с голубыми цветами.