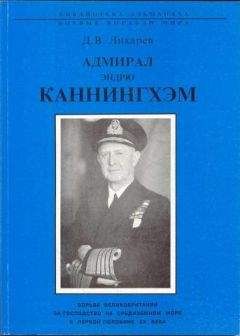Ирина Алефова - Яд для Моцарта
Я был повержен.
И теперь передо мной лежит, как всегда, оригинал Симфонии h-moll. На ней лежит револьвер. И я дописываю последнюю строчку. И я признаю, что не выдержал сражения с Гением: о нем говорят века, я же неизвестен и большинству современников.
Но один лишь Всевышний знает, как я любил Шуберта…Диалог с паузами
– Один лишь Всевышний ведает, как я люблю тебя, брат мой.
– Костер затухает, и пространство вокруг наполняется темнотой. Нужно больше дров, чтобы стало светлее.
– Зачем? Для того чтобы видеть тебя, мне вовсе не требуется огонь. Вполне хватает и твоего собственного свечения.
– Ты льстишь мне, брат. Свет исходит не от меня. Это лишь отражение сияния прекрасной и недосягаемой звезды.
– На небе их тысячи. Которой из них?
– Выбирай любую.
– Нет. Мне не нужны звезды – они слишком далеки и холодны. Я отражаю тебя.
– И все же костер следует разжечь – близится время Даров.
– Ты хочешь сказать – время Жертвоприношений?
– Я хочу сказать именно то, что сказал.
– Твой голос стал жестче, брат. В чем причина? Ты недоволен мной?
– Мне не нравится то, что я увидел в пламени. Мне кажется, что это каким-то образом касается и нас с тобой.
– Тебе все еще только кажется? Разве ты не узнал в лицах персонажей человеческой комедии наши искаженные временем облики?
– …Мне стало зябко, и вообще – как-то не по себе. Ты не замечаешь, что на землю вместе с ночью опускается не только темнота, но и прохлада?
– Конечно. Мне странно, что ты раньше этого не видел.
– Я смотрел не на землю. Мой взгляд, и слух, и все мое существо было устремлено к небесам.
– Стремясь увидеть все, ты не видишь самого главного.
– Каждый выбирает, что для него важнее.
– Конечно! Разве мне, обыкновенному земному человеку, доступны понятия и истины высших сфер? Куда там… До небес не доплюнешь.
– Я снова не узнаю тебя, брат. Твоими устами говорит само Зло человеческое. Возможно, ты неверно меня понял: я вовсе не хотел подчеркнуть свое превосходство…
– Да?! Не хотел?! Да ты, между прочим, изо дня в день, сам того не замечая, твердишь об одном! Допустим, я действительно не слышу твоей чертовой музыки, но почему мы каждый вечер должны возвращаться к этой теме снова и снова? Нам с тобой больше и поговорить не о чем?
– Хорошо, я буду молчать.
– Но опять же – о ней, о музыке сфер – Вселенским Молчанием!
– Твое лицо искажено злобной гримасой. На нем пляшут блики разгоревшегося костра. Мне страшно и неприятно на него смотреть.
– Страшно? Чего же ты боишься, брат мой?! Не отворачивайся, посмотри хотя бы раз правде в глаза: рядом с тобой есть я, твой родной брат, которому тяжело жить в абсолютном одиночестве на этой грешной земле!
– Откуда в тебе столько одиночества?
– От того, что одновременно ты и есть, и нет тебя. К тому же, тебя слишком много, – если ты понимаешь, о чем я говорю.
– Не совсем…
– Тогда пойдем, пойдем со мной – и ты увидишь, отчего я одинок, когда вокруг меня Ты, множество Тебя.
История третья. Изнутри Россия, вторая половина XIX века
solo meditation
Число «пять» – непростое и, я бы даже сказал, магическое. Немудрено, что нас было пятеро.
Пять русских композиторов, временные координаты которых так удачно совпали, композиторов, повстречавшихся друг с другом в одном из красивейших и, безусловно, счастливых городов планеты, известным под названием Петербург.
Пять символизирует некое разрушение заданности квадрата. Еще начиная с пифагорейцев, насколько я помню, сильной символикой обладало число «четыре». Средневековые философы усматривали в нем высший знак гармонии, так как это число связывает противоположные стороны, из которых состоит. Мир в основе своей построен на законе четверки: стоит вспомнить хотя бы о четырех временах года, четырех сторонах света, четырех стихиях (или составных элементах мира), четырех прямых углах.
Участь же пятого элемента незавидна, подобна пятому колесу – быть лишним и ненужным, мешать и разрушать слаженность. Я был тем самым пятым. Моя роль заключалась в том, чтобы стать для них одновременно и точкой отсчета, и звеном, замыкающим магический круг.
Как это начиналось…
moderato assai
Сначала нас было двое: случай свел меня с Балакиревым. Впрочем, случай ли? Теперь я все больше и больше прихожу к убеждению, что этот «случай» был запрограммирован Всевышним с самого начала, с момента моего рождения. Между прочим, родители неслучайно назвали меня Цезарем – имя влечет за собой характер, а стало быть, и судьбу. Во всяком случае, они на это очень надеялись.
Музыке я начал обучаться с десятилетнего возраста. Еще до отъезда из родного города Вильно мне посчастливилось взять несколько уроков теории и композиции у известного в то время польского композитора Станислава Монюшко. Но родители не захотели видеть в своем сыне музыканта, посему по прибытии в Петербург я по воле отца поступил в Главное инженерное училище, а по окончании этого заведения продолжил образование в этой же сфере – в Военно-инженерной академии.
Тот самый знаменательный случай произошел со мной примерно за год до окончания академии: на одном из публичных концертов я познакомился с Милием Балакиревым.
Помню, что я только что был произведен в офицеры и музыкой был увлечен серьезно. Узрев в собеседнике родственную душу, я с радостью ухватился за возможность поделиться своими соображениями по поводу музыки и разговорился с Милием Алексеевичем.
Статный молодой человек с благородными чертами лица и аккуратно постриженной по тогдашней моде бородой, в отутюженном фраке, сверкающей безукоризненной белизной рубашке и начищенных сапогах произвел на меня весьма благоприятное впечатление.
Но гораздо больше меня поразил его острый и живой ум, меткое словцо и горящие совершенно неземным светом глаза.
Этот удивительный человек, как оказалось, был вхож в круги музыкальной элиты Петербурга. Уже в пятнадцатилетнем возрасте он, подобно небезызвестному капитану Жюля Верна, управлял огромным «кораблем» – дирижировал любительским симфоническим оркестром, исполняя симфонии Бетховена.
К моменту нашей встречи Балакирев уже был известной личностью – незаурядной и многоплановой, потому как не только сочинял хорошую музыку и писал в периодической печати яркие отзывы о концертах, оперных постановках и прочих событиях музыкальной жизни Петербурга. Милий завоевал признание публики и в качестве превосходного исполнителя – он отлично владел фортепиано и тонко чувствовал музыку.
Одним словом, человека с подобным творческим потенциалом еще поискать. С первых минут нашего общения я интуитивно почувствовал некое сходство между нами. Этим, вероятно, и объяснялась та легкость, с которой мы сразу же стали понимать друг друга.
Милий с величайшим одушевлением говорил мне о Глинке – в тот день я впервые услышал имя этого великого русского композитора. Мне было неловко и досадно за собственную неосведомленность, но взамен я мог в подробностях рассказать о моем учителе Монюшко – как выяснилось, Балакирев точно так же не знал его. Милию, практикующему педагогу по музыкальной композиции, было весьма любопытно узнать о методах обучения своего знаменитого польского «коллеги». Таким образом, мы были квиты.
Я решил для себя, что встреча с Балакиревым предназначена мне судьбой, что это знак свыше, открывающий мне дорогу в мир музыки, о котором я грезил на протяжении долгих лет обучения в чуждых мне по духу заведениях. Милий, в свою очередь, признался, что тоже увидел во мне неординарную личность. Совсем скоро мы стали хорошими друзьями. Дело было в шляпе.sostenuto doloroso
Суровый осенний ветер Балтики забирался под полы и за ворот пальто, нещадно пронизывая до костей. В морском порту всегда было ветрено, но сегодня холод был особенно чувствителен каждому из четверых мужчин, прибывших сюда с определенной целью.
Возле причала величаво покачивался на волнах красавец «Алмаз». Паруса клипера были еще спущены, но команда была наготове и лишь ожидала капитанского приказа к отплытию. На борту царила подобающая моменту суматоха. Члены флотского экипажа, состоящего из молодых гардемаринов, выпускников Морского кадетского корпуса, то и дело проносились по трапу. Военному паруснику предстояло длительное и нелегкое путешествие – на службу к берегам Западной Европы.
– Эх, Николя, счастливый же ты человек! – воскликнул один из четверых, обращаясь к молодому сухощавому человеку, одетому в военно-морскую форму. Наличие обмундирования выдавало в нем члена команды, прочих же, облаченных в гражданскую одежду, отличал взгляд, преисполненный грустью предстоящей разлуки с товарищем. – Как бы мне хотелось быть на твоем месте! Посмотреть Европу, набраться впечатлений на всю жизнь – что может быть лучше для вдохновения и новых творческих замыслов!