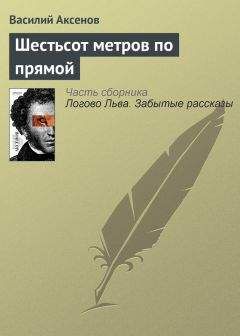Дмитрий Раскин - Хроника Рая
– Где-то начало двадцатого века, до двадцатых годов двадцатого, но и в тридцатых они тоже были. Но все равно же по срокам не сходится, Меер?! Да нет, они и позже были. Вообще могли быть когда угодно.
– Сколько лет мне было тогда? Если судить по размерам фигурки – шесть ли, семь. Это ощущение легкого такого, теплого ветерка и света на внутреннем сгибе моего локтя. Больше вообще ничего нет. Но и этого достаточно для идентичности. И прошлое, все прошлое, которого я не помню сейчас, я все-таки принадлежу ему. Даже если оно, в силу моей болезни, не принадлежит мне… Не знаю только, помню ли я этот матросский костюмчик, всю эту сценку или же вообразил себе, но этот образ перед глазами и его, действительно, достаточно.– А что твой психотерапевт? – спросил Лоттер.
– Говорит, весьма любопытный случай, преувеличивает, видимо. Мне кажется, он уже пишет статью по мне. Кстати, Макс, если это действительно не просто амнезия, но что-то новенькое, чье имя получит болезнь: врача или пациента?
– Ты говорил когда-то, будто у тебя такое чувство, что ты не должен, – Лоттер пытался подобрать слово, но не получилось, – восстанавливать память. Ты даже говорил, что рано еще. Ты и сейчас так думаешь?
– Это как будто дает мне свободу от судьбы.
– Ты думаешь, это свобода? А если это и есть судьба – не помнить.
– Даже если ты и прав. Но я не должен.
– Почему? – Лоттер старался не выказывать сострадания.
– Если я скажу тебе свои предположения на этот счет, ты просто решишь, что вместо утонченного психоаналитика мне нужен обычный, банальный психиатр, – отшутился Лехтман.
Дианка захотела в театр. Прокофьев, честно говоря, был не в восторге, да и театр у них «на горе» из тех, где архитектура в той же мере превосходит драматургию, в коей славное прошлое театра превосходит его самодовольное настоящее.
В этот вечер давали водевиль, Прокофьев приготовился поупражняться в сарказме, но ему вдруг понравилось, в общем-то. Они сидели с Дианкой, рука в руке, смеялись, обменивались пожатиями.
Хуже было другое: в антракте наткнулись на Оливию, Прокофьев хотел преспокойно пройти, но она поприветствовала, к тому же Оливия была с долговязым, пытающимся отрастить бороду юношей, а он оказался знакомым Дианки (их волонтер). Из театра возвращались вместе.
– Как вам пьеса, доктор Прокофьев? – поинтересовалась Оливия.
– Игра французского ума, насмешка, кстати, достаточно тонкая, над всеми персонажами, которая, конечно, есть приятие: «такие мы, что ж сделаешь», – укорененность эта наша в себе самих. И пьеса льстит, в конечном счете, льстит своим героям, точней не столько им даже, как жизни, в смысле преувеличения ее увлекательности, непредсказуемости, света, искр и прочего. Преувеличивает значение событий жизни. – Прокофьев раскрыл программку, поискал в ней:
– А если посмотреть с учетом даты написания сего бессмертного произведения, да и самой премьеры, то получается, ревнивый муж, герой-любовник, любовник ироничный, офицер самовлюбленный, в компании с актерами, что их сыграли, наверно, скоро канут в каком-нибудь окопе под Верденом.
– Это меняет что-нибудь? – спросила Оливия.
– Наверно, нет, но все-таки масштаб.
– Ник как всегда накручивает несколько, – сказала Дианка. Все они, включая самого Прокофьева, посмеялись. В этот чудный, мягкий вечер как-то не верилось в «масштаб». Долговязый юноша, который вообще ничего не понял, на всякий случай смеялся громче всех. Оливия зафиксировала это про себя. Она, судя по всему, вела счет подобных ляпов своего друга и счет этот, видимо, был для юноши неутешителен.
Перед расставанием Оливия, улучив минуту (какая тут минута, могли услышать), шепнула: «Не бойтесь, господин Прокофьев». Это значило, что она не настучит Марии. Значит, теперь у Прокофьева с этим ребенком есть общая тайна. Вот ведь, старый пенек, устроил себе вторую юность, по привычке, наверное. И если б ему, в самом деле, было интересно или не хватало бы ума понять, как он смешон здесь. И не столько даже смешон, как занудлив.
Прокофьев таинственно, даже торжественно (в той мере, в какой таинственен и торжественен был ее шепот) кивнул; договор заключен. Дескать, у них теперь есть тайна, он верит Оливии. Но ему показалось, что она все-таки почувствовала его иронию. Он тогда еще не знал, что все это закончится не слишком смешно.
Ночью, уже после близости, Дианка начала, сначала достаточно мягко (но ясно было, что это надолго) о том, что надо делать добро, о Вере, душе и все с таким оттенком, она жалела его. Нет, ничего конечно же страшного, Прокофьев привык. Он вообще-то умел быть «параллельно» женщине, Дианке, тем более, что с нее взять, в самом деле. Наверное, счастье, когда все так просто и ясно, когда ты все время прав. В нынешнем своем настроении он скорее даже порадовался за нее. Но дело в том, что все, что она говорит ему, все, что он наговорил и сделал за жизнь, все, что он еще будет делать и говорить – все это уже было – бессчетное множество раз было и будет. Десять жизней дай – будет то же самое ровно… А все остальное: живое, хоть сколько доподлинное – лишь для того, чтобы скрыть этот бездарный повтор от самого себя. Подступила та самая брезгливость к себе самому (давно не видели!), тот отвратный, вяжущий привкус поднимался откуда-то из кишок. (Лехтман, все-таки в той своей миниатюре передал это все весьма приблизительно.) Прокофьев молчал. Дианка требовала диалога. Раздражалась уже.
– В вашей Вере слишком много ответов, – начал, наконец, Прокофьев, – В ваших истинах слишком много окончательности и правоты. В вашей правоте слишком много самодовольства. В вашем Христе нет самого Христа.
– Мы спасли тысячи и тысячи от голода и болезней, – у Дианки покрылось краской не только лицо, но и шея, и грудь почти до сосков, до самых, – а ты фразерствуешь только, всю жизнь фразерствуешь. И портишь девочек при удобном случае. Я не зову тебя с собой, как ты однажды выразился, «в африканские болота перевязывать раны». Нельзя принуждать человека заниматься «не своим» (ты говоришь, что я догматик, но видишь, я понимаю). Нельзя принуждать заниматься тем, на что не способен. Но ты бесполезен, абсолютно. И умудряешься в этой своей «бесполезности» видеть некое свое превосходство, доказательство собственной «мировоззренческой широты» (главное, точнее сказать, единственное), гоняешься за миражами и не делаешь даже той малости, на которую ты способен. Помнишь, тебе даже лень было прочитать лекцию на благотворительном вечере, я так просила тебя тогда! После нас останутся больницы и церкви, а после тебя только нераспроданный тираж твоей книги под кроватью. – Дианка ткнула своим указующим перстом в ложе возле крутого бедра, – ладно была б гениальная (будь ты хотя бы непризнанным гением, слова тебе б не сказала!), но понимаешь сам.
– Я не прочел вашим этой лекции из такта.
– Ах, вот как! – Дианка сейчас в этой своей интонации явно подражала Марии.
– Потому, что они бы поняли, почувствовали презрение к ним, к их глянцевой Вере, к самодовольной благотворительности, к их пресному добру, штампованной добродетели, механической морали. Не мое презрение, боже упаси, но презрение, исходящее от самого «предмета» моей лекции. Я преклоняюсь перед больницами и церквами, но ваше самодовольство не закрыть даже Кёльнским собором. Ваша церковь, ваш фонд – Прокофьев бегал уже по комнате, Дианка по-прежнему слушала лежа, – это тоже «рой», даже если на флагах у вас написано «личность», «свобода», «Христос». Неужели вы думаете, что Он страдал, прошел свой путь за-ради того, чтобы вы со своими пасторами и благотворителями от Его имени презирали реальность?! Пусть презираете вы не агрессивно, скорей, снисходительно, но в этом-то самый смак и глупость тоже самая-самая. Может, кстати, твоя подруга Мария (при всем моем несочувствии) в своей борьбе с вашей фальшью права. (Прокофьев не был так уж уверен, что Мария борется именно с этим. И зачем он сейчас о Марии с ней? Для остроты.)
– Я в своем фальшивом, конечно же, желании делать добро сколько раз рисковала. Ты, может быть, помнишь, однажды, те, кого я спасла от голода, шесть часов подряд издевались, глумились надо мной всеми способами, какие только есть, – Дианка закусила губу, по щекам текли слезы.
– Ладно, хватит. (Пусть закончится так… на ее моральной правоте. Даже лучше, чтоб так.) Ладно. Ладно. Мы оба применяли запрещенные приемы. Ну, хватит. – Прокофьев сел на кровать. Погладил ее по плечу. Он утешал ее. Потом вдруг попытался овладеть ею, скорее «порядка ради». Она была не то чтобы оскорблена, удивлена, прежде всего. Через некоторое время равнодушно ему уступила.
Много позже, когда Дианка наконец заснула, Прокофьев встал, сунул ноги в сланцы, ему нравились эти жесткие, что приятно щекочут и колют кожу, как бы даже удостоверяя его в реальности самого себя. Запахнулся в халат и выполз на свой балкончик. Небо и горы. Небо как вертикальный срез самого времени, или же вечности, сейчас неважно… А мы вот живем, сей факт по наивности принимая за основное оправдание для себя самих. Даже лучшее его, подлинное, главное все равно получалось у него пошлым. И он, наверное, только лишь притворялся, что не замечает. А эти его попытки все изменить, пробиться были совсем уже пошлы. (Если они только были вообще.) Он когда-нибудь (усмехнулся) напишет книгу о ложном катарсисе.