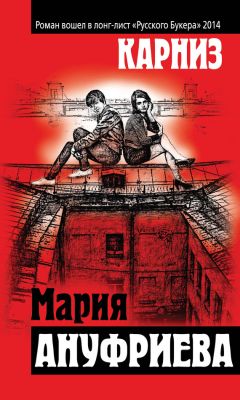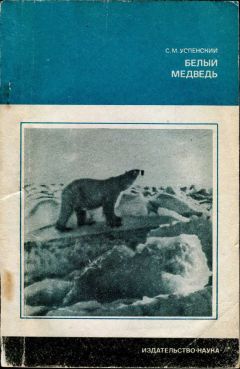Мария Ануфриева - Медведь
Кое-как вытолкав непарнокопытное в человеческом облике за дверь, врач обрушил свой гнев на меня:
– А вы что тут сидите? Вам что надо?
Я постаралась слиться со стенкой и как можно ласковее сказала, что жду доктора.
– Ночью? – удивился он. – А доктор-то знает, что вы его ждете?
– Нет, еще не знает. Мне сказали, что он на операции, но я буду ждать его сколько надо. Я сижу тихо и никому не мешаю.
Ночной врач покачал головой, театрально вздохнул и ушел обратно на отделение.
Милиционер меж тем продолжал кому-то звонить. Наконец он спросил меня:
– А тут одна реанимация?
– Нет, еще есть ожоговая, а вон там кардиореанимация, – охотно стала объяснять я, потому что в моих интересах было, чтобы он поскорее исчез из-под дверей реанимации хирургической и не проецировал гнев персонала на меня. – А дальше всех отсюда токсинологическая, за двумя поворотами. Может быть, вам туда надо?
Оправдав мои ожидания, он помчался в указанном направлении, высоко поднимая ноги и совершенно не заботясь о производимом тяжелыми ботинками шуме, будто и впрямь был сорвавшимся с привязи, не разбирающим дороги жеребцом.
Потом я опять ждала, ждала, ждала.
Иногда из раскрытых дверей реанимации доносился нечеловеческий вой, словно кричал раненый Кинг-Конг. Видимо, кому-то повезло: очнулся, но еще не пришел в себя и этими звериными звуками возвещал свое возвращение в мир живых.
Меня эти крики не беспокоили, ведь они не могли побеспокоить его.
– Жди, Медведь, не умирай, я не уйду, пока не выпрошу твое крещение, – тихо говорила я ему.
И он ждал, держался, не умирал.
Провезли на каталке поступившего больного. С его неестественно изогнутой ноги на белый пол капала кровь. Капли засохли, зигзагами указывая направление исчезнувшей за поворотом каталки.
Через некоторое время прогнавший милиционера ночной врач снова выглянул и уже участливо спросил:
– Вы все еще тут? Может, вам домой поехать? Завтра поговорите с доктором.
Я ответила, что завтра может быть поздно. Он выслушал, горестно завздыхал и пошел спрашивать у кого-то, можно ли меня пропустить.
Вернулся через пару минут с деловым и довольным видом и сказал:
– Все нормально, ответили: Бог с ней, пусть проходит, жалко, что ли. Сколько времени вам на это надо?
– Четыре минуты, – прикинула я, сжимая в кармане листок со словами, продиктованными батюшкой.
– Хорошо, договорились, только четыре минуты. Помните, вы мне обещали!
Мы быстро пошли с ним по пустынному коридору с ровным светом к палате, на ходу он прилаживал на меня белую простыню.
Никогда мне не могло прийти в голову, что на полном серьезе, перед лицом смерти я буду крестить человека. И этим человеком будет мой муж. Жизнь очень непредсказуема.
Дни, проведенные в больнице в надежде на чудо, сильно изменили меня. Я очень остро ощутила, что с верой жить легче. Проще проживать каждый конкретный момент выпавших тебе испытаний.
Словно невидимые крылья расправлялись внутри, бились и смешивали воедино ужас, усталость, тоску, отчаяние, надежду и веру. Когда опускались руки и уже не было сил, я вдруг испытывала такой духовный подъем и просветление, что казалось – все по плечу.
Из углубления в стене на меня смотрели с икон Ксения и Серафим, с фотографии на тумбочке смотрел Медведь – другой, прошлый, улыбающийся. На тумбочку рядом с ним, здоровым и сильным, я положила бумажку со словами.
Я волновалась, руки тряслись. Капли воды падали на пол рядом с кроватью.
– Теперь ты крещеный, Медведь, – сказала я ему на прощание и положила на голую грудь деревянный крестик.
Ровно четыре минуты.
Не бывает атеистов в палатах реанимации.
Как только я закончила, заметила двух врачей, только что вошедших в палату. Они стояли в стороне и оглядывались на меня. Подумав, что это посреди ночи нагрянуло больничное начальство и сейчас влетит пропустившему меня доктору, я прибавила шагу и на цыпочках выбежала в коридор. Там я рассчитывала набрать скорость и исчезнуть, но была остановлена криками:
– Подождите! Подождите!
За мной из палаты выбежали врачи.
– Постойте! Я – нейрохирург, – представился один из них, очень высокий, с грустными внимательными глазами. – Вы знаете, что мы пришли за вашим мужем и сейчас увозим его на операцию?
Я не знала, что Медведя собирались повторно оперировать этой ночью, потому что вечером Отличник об этом не сказал. Наверное, он и сам не знал, и решение было принято позже.
Выходит, не зря я так мчалась в больницу. И как вовремя меня пропустили: еще немного, и его увезли бы в операционную, находящуюся внутри отделения, а я так и сидела бы в общем коридоре, ничего не зная. Ну а на следующий день к вновь прооперированному ни за что бы не пустили.
– Вы все понимаете? – спросил нейрохирург. – Это делается по жизненным показаниям, оперировать буду я. Ничего не могу вам обещать, состояние очень тяжелое, но я не могу отнять у вас надежды на чудо.
– Да, понимаю, – ответила я и попросила: – Вы только сделайте все возможное, что от вас зависит.
Потом мы шли к выходу, и пропустивший меня ночной врач утешающе говорил:
– Ну вот видите, вы все сделали правильно. Перед самой операцией покрестили. А там уж как Бог даст.
На прощание он посоветовал мне не сидеть в коридоре и не ждать конца операции, а ехать домой спать. Я с ним согласилась, потому что сил у меня уже не было. Он выпустил меня из ближайших дверей в приемный покой, повторив тихо и настойчиво, как ребенку:
– Езжайте, езжайте, не сидите!
На обратном пути я уже не прятала лицо от охранников. Они, так же как и днем, неодобрительно посмотрели в мою сторону, прикидывая, осталась ли я в больнице с вечера или умудрилась пройти незамеченной ночью. Видимо, в их представлении я была воплощением беспорядка.
За стенами больницы бушевала настоящая снежная буря, на глазах превращавшая спящую улицу в сказочный белоснежный тракт. Завтра утром измученные зимой горожане будут месить сугробы, тщетно искать места для парковки, проклинать снежную зиму, не понимая, как это здорово – вдыхать влажный январский воздух, хрустеть свежим снегом, утопать в нем, чувствовать его холод, быть живым.
До утренней суеты оставалось несколько ночных часов и одна большая операция.
Я не знала, переживет Медведь вторую операцию или нет, но на душе у меня было спокойно, как будто школьный батюшка, отпуская с урока, сказал еще не вполне поставленным басом, пряча смущенную мальчишескую улыбку в окладистую бороду: «Иди с Богом!».
Я вышла из больницы с Богом в душе, или так мне казалось. А может быть, это одно и то же: нам кажется, что на душе стало светлее, легче, спокойнее, значит, появился в ней божественный отсвет.
Окна реанимации светились таким же ровным белым светом. Где-то за ними в гулких коридорах простучали колеса каталки, а нейрохирург с грустными глазами уже включил лампу над операционным столом.
Больше всего на свете хотелось провалиться в сон, по глубине и отсутствию мыслей равный коме третьей степени. Ничего не слышу, никого не вижу, ни о чем не знаю. Я хочу, чтобы меня не было. Пусть это будет сон третьей степени, только пусть мне ничего не снится. Не навсегда, до весны.
Уже не было сил ехать домой. Я хотела заснуть и исчезнуть прямо возле серого больничного корпуса, под вой набирающей силу метели, и проснуться тоже там, весной, когда выглянет солнце, когда оно растопит снег и больничное небытие, когда все должно быть по-другому.
Он откроет глаза, я посмотрю в них – и это будет настоящее счастье! Даже если он меня не узнает, он будет жив. Об этом счастье можно не догадываться всю жизнь, а можно понять мгновенно, когда мгновения самой последней, крайне тяжелой степени.
А потом у нас будет совсем другая жизнь, но ведь медицина не стоит на месте! Кто сказал, что мы не сможем сделать новую жизнь чуть более счастливой, даже если никто не поймет этого счастья.
Крылья внутри успокоились и словно укрыли сердце. День за днем они бились, трепетали, и вот замерли, последние, после врачей, после экстрасенса, смирившись с бессилием – там уж как Бог даст, а мы все сделали. Они словно вышли наружу и укрыли меня целиком.
Часть 2
КРЫЛЬЯ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
Белый коридор. Железные стулья. Большое окно почти до пола.
За окном ярко светило солнце, внутренний двор большой больницы по-прежнему был покрыт снегом, но снег таял, и в воздухе пахло весной, даже тут, в больнице, даже возле дверей реанимации. Они открыты настежь, за ними, как всегда, пусто, тихо и для постороннего, заглянувшего внутрь, ничего не происходит. Но и там наступила весна: по коридору гуляют солнечные блики, а кислый крайне тяжелый запах угасающей жизни, смешавшись с острым крайне легким запахом жизни пробуждающейся, будоражит и щекочет внутри самые дальние, потаенные, давно не звучавшие струны. Март на дворе.
Тут, в коридоре большой серой равнодушной больницы, именно сейчас, весной, хотелось набрать в легкие воздуха – пускай и кислого, спертого, больничного, – и выдохнуть благодарно: «Как же жить-то хорошо! Вот просто быть живым, и больше ничего не надо!»