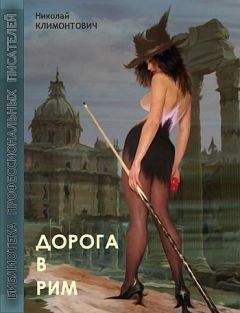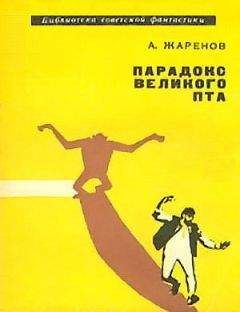Николай Климонтович - Парадокс о европейце (сборник)
В те летние дни я собирался в Молдавию, в очаровательную мазанку в тени раскидистого сада, то есть уже тогда у меня была наклонность к эскапизму. Легкая в те годы на подъем Лиза прикатила ко мне: мы жили в моем домике и ели виноград прямо с ближайшей лозы. Когда мы располагались на траве под вишнями, ее платье почти сливалось цветом с пышной растительностью вокруг, образовывая на траве зеленое пятно потемнее.
Помнит ли теперь об этом Лиза, не знаю. Мы плыли на катере в Сороки, Лиза пошла в рубку, попросила у капитана микрофон и своим известным всей стране голосом произнесла – на нашем пароходе плывет молодой писатель Коленька, хулиганка. Это она, кажется, припомнила, но на лице ее было сомнение. Или, скажем, недавно я рассказал ей, как мы за неимением другой посуды пили из толстого рифленого плафона, измазанного краской, шампанское в моей первой в жизни квартире, еще пустой и пахнувшей не просохшей штукатуркой. Пили за мое новоселье и за наше расставанье, потому что она скоро уезжала со своим мужем на Ближний Восток. Выслушав, она удивилась и не вспомнила. Интересно, помнит ли Лиза то свое, такое счастливое для нас, платье, женщины ведь на всю жизнь запоминают самые удачные свои наряды. Я-то помню даже золотые нити в его швах.
Я, непоследовательный неверующий, и сейчас не снимаю с шеи крестик, подаренный ею. И крохотный складень с Девой Марией, купленный Лизой в Иерусалиме на ступенях храма Гроба Господня у арабского торговца. Я ношу крест и иногда целую складень не из христианского рвения, но из суеверия. Как обереги. А Лиза и теперь в церкви молится за меня и ставит свечки за здоровье, если не забывает, конечно. А я теперь молюсь за Фэй.
После ее отъезда на побережье подряд три дня шли дожди, подчас переходящие в ливень с грозой. Ветви пальм сиротливо жались к чешуйчатым стволам, по листьям катились крокодиловы слезы. Стены бунгало трепетали от разрывов молнии и грома. И заливало веранду. Я вопреки всякому здравому смыслу дважды приходил на причал, зная, что никуда не поплыву, да и катера не ходили, им не давали разрешения на выход в море. Хотя от Ко-Чанг до моего острова было всего ничего, полчаса, не больше. Я как раз и хотел убедиться, что катера не ходят. Потому что шторм внушал мне зыбкую надежду: Фэй все-таки спешит ко мне, соскучившись, но ей препятствует стихия.
Я все сидел на пляже, прячась под пальмами от дождя. Отчего вид мокнущего под дождем побережья так беспроигрышен – он непременно вызывает дежурную щемяще-сладкую грусть. Кадры такого рода обязательны в так называемом лирическом кинематографе. Это как в советском милицейском фильме, когда берут преступника, непременно ночью на даче, в отдалении, за кадром, для убедительности обязательно лает одинокая собака. Постоянная ошибка, продиктованная, скорее всего, скаредностью директоров: если в поселке в темноте залает пес, ему непременно ответят другие.
Помимо опавших листьев, таких печальных, точно их лишили пенсии, заколдованного тумана и незнакомок, в синих плащах печально теряющихся в погодном мороке, есть другие безотказные приемы нагнетания грусти. Скажем, герои, как правило, снятые в контражуре, одиноко льнут друг к другу на фоне заходящего за море солнца. Водная рябь, мерцающая пурпурная дорожка, здесь помимо лирической печали еще и философическая глубина, легкий намек на несбыточность ожиданий на фоне общей бренности бытия. Бренность эту подчас оттеняет и какая-нибудь одинокая перевернутая лодка на берегу, с дырой в днище.
В своем одиночестве я вдруг подумал, что островитянство – неплохое условие для написания книги. Нет, не условие даже, но сама романная фабула. Островная неподвижность и покой – это как бы путешествие наоборот.
Такое повествование, как старый сундук, могло бы вместить в себя что угодно. Сервантес в первой главе второй книги отстаивал право романиста на вставные номера – его, видно, критиковали за вставные повести в первой части. Кундера уже в наши дни пошел дальше, настаивая, что именно вставки, не имеющие отношения к канве повествования, и делают роман – романом, являясь непременной приметой жанра. В пример он приводит, кажется, Кармен с очерком-введением этнографии испанских цыган. Можно бы добавить и Отверженных с главой о парижском арго, и Моби Дика с описаниями китобойных принадлежностей и приемов.
Собственно, путешествие – это единственно возможный романный сюжет. Даже роман воспитания есть роман жизненной дороги и в этом смысле не отличается, скажем, от плутовского, ведь последний тоже лишь частный случай романа путешествия: плут и вор всегда в беспокойстве, в вынужденном странствовании, чтоб уйти от погони. Движется ли герой в надежде скупить побольше мертвых душ, затоварить бочкотару или достигнуть Петушков – все он в пути, которому нет конца. А самое восхитительное путешествие в прозе нового времени – плавание на плоту Гекльберри Финна. Оно имеет конечным пунктом цель куда более идеальную, чем у Авраама или Одиссея, у Дон Кихота или Пантагрюэля, чем даже у апостола Павла, чем даже, страшно сказать, у Данте, ведомого Вергилием, потому что те искали и обрели рай, а путешествие Гека восхитительно потому, что на самом деле бесцельно. Или иначе, оно преследует цель заведомо недостижимую на этом свете, а именно – свободу.
И островитянин – тот же авантюрист, ищущий ту же призрачную цель. И его бесконечное островное путешествие – это дальняя его дорога, отважное плавание по океану беспамятства и окончательного забвения.
Я вспомнил Таню. Последнюю мою даму, она же и первая. Теперь я поселю и ее на острове среди других теней.
Эта великая и отважная женщина дала мне то, чего я искал у многих. А что именно – и не сказать. Она изменила сам мой состав. Я сделался серьезен с самим собой. Она привила мне ответственность жизни. А ведь, когда я встретил ее, мне было уже за тридцать. Ну а ей – ей, скажем, за сорок. Она по-детски скрывала свой возраст. Как-то я купил на развале кинословарь, принес к ней, листая и дразня: сейчас мы все узнаем. Она попросила книжку на секунду, мигом нашла нужную страницу, ловко ее вырвала и на моих глазах съела…
Когда мы уезжали в голодный, как во времена Солнца мертвых, Крым, она накупила мяса – в московских магазинах ее еще узнавали, хоть самые звездные ее роли остались далеко в прошлом, и – совершенно бесхозяйственная – на моих глазах изготовила и закатала в банки запас тушенки, которого хватило бы на время учений роте солдат.
В другой раз мы жили с Татьяной на даче на Никулиной горе, я рассказал ей как-то о Лизе. Она потребовала знакомства. Помню, солнечный январский денек, между двумя Новыми годами, они идут впереди меня по пустой зимней дороге, обсаженной темными разлапистыми елями, я плетусь сзади, обе так увлечены одна другой, что обо мне совсем забыли… И до самой смерти Тани они оставались лучшими и самыми близкими друзьями, что ж, я смог хоть отчасти отплатить обеим за их добро, подарив друг другу.
Помню, года через два после Таниной смерти, Лиза позвонила: включи телевизор. По каналу Культура показывали старый фильм, отчего-то у нас малоизвестный, хоть и отмеченный в Каннах, где дело происходит тоже на острове в Белом море, остров звался, кажется, Волчий. Я этот фильм никогда не видел, а между тем Татьяна в нем была изумительна, сдержанно сильна и очень красива. Едва фильм закончился, Лиза перезвонила и произнесла лишь: какая женщина тебя любила!
Трагедия на нашем тихом острове разыгралась вдруг, как всегда случается с трагедиями. Еще на своей дачной родине я наткнулся в каком-то современном французском романе на предупреждение, сколь ненадежна и обманчива видимая безмятежность зоны рекреации.
Что ж, жизнь вообще штука опасная. Но происшедшее было столь дико, что в него и поверить было нельзя. На острове высадилась очередная порция отечественных туристок. Среди них были две симпотные и разбитные девки, с ляжками да грудями, обе лет под тридцать – потом следствие установило, что обе из Сибири, но из разных городов, познакомились в самолете на рейсе Омск – Бангкок. Они отделились от группы и, прихватив шезлонги, устроились в стороне, за углом скалы, задымили Мальборо. Мой знакомый, тоже недавний обитатель нашего острова, тот, кто имел гриль, подошел к ним, перемолвился парой слов и одарил флаконом местного виски Hong Kong, страшное пойло, назвали бы лучше прямо и честно Синг-Синг.
Парень был с континента, приехал в сезон подработать и, что важно, знал немного по-русски, учился некогда в Краснодаре в кулинарном училище. Но девки и предположить не могли, что он их понимает, это стало для них роковым. Потом следствие воспроизвело с его слов краткий диалог двух дур, хоть для перевода ключевого слова пришлось запрашивать Россию.