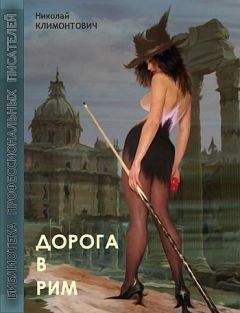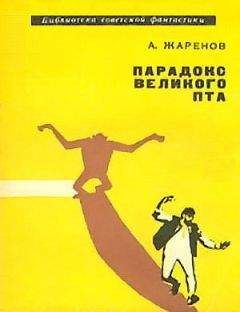Николай Климонтович - Парадокс о европейце (сборник)

Обзор книги Николай Климонтович - Парадокс о европейце (сборник)
Николай Юрьевич Климонтович
Парадокс о европейце
Островитянин
Память – остров в океане забвения.
Суй Фуй ВынСегодня Фэй не придет.
Сегодня Фэй отправилась навестить родных, а это неблизкий путь. Нужно катером с нашего островка, носящего имя Кон-Вай, добраться до Кон-Чанг, Слоновьего острова, он называется так не потому, что на нем водятся слоны, но сам остров в плане – с большим животом и длинным хоботом. Там пересесть на паром, идущий на материк. И уже на берегу попасть на автобус, идущий пять-шесть часов вверх по горной извилистой дороге, потом пешком еще километров семь до ее родной деревни – и за два дня не обернешься…
Обычно мы устраивались прямо на циновке. И только потом выходили из бунгало на пляж. Коли прибой не сильный, подолгу лежали в воде у берега. А если волна была высокая, закапывались в мелкий белый песок, разгребая, как черепахи, верхний раскаленный слой, добираясь до влаги, которую хранит нижний слой песка на память о ночном приливе.
Как мы общались? Если бы мне задали этот вопрос, я затруднился бы ответить. По-английски она знала лишь несколько слов, среди них неожиданное в ее устах sad. По-русски и вовсе ни одного, даже спасибо, она ведь была не продавщица и не кассирша, всего лишь горничная, но это для корректности, так домработниц в Москве нынче именуют помощницами. Фэй – простая уборщица, из деревенских. Она убирала в баре, потом у меня. Но мы понимали друг друга, и отлично ладили. Если она хотела близости, интересовалась: бум-бум, папа? Когда же бывала голодна, спрашивала: папа, ням-ням?
Конечно, я платил ей, но не больше, чем любой cleaner. Так что можно сказать, мы жили по любви, ну, по взаимной склонности, что мне было лестно: мне тогда было уже за пятьдесят, ей едва ли двадцать. Она, конечно, знала мое имя, но все-таки за глаза называла пон чаа, что на местном наречии означает «чужой», но чаще говорила просто рус. Только изредка она обращалась ко мне Ко, что казалось ей очень забавным – здешние жители, особенно жительницы, очень смешливы. Дело в том, что кон – это на их языке означает остров, но «н» не произносится. А уж воспроизвести Николай для нее было непреодолимо. Язык ее соплеменников односложен, как звук прибоя: медленно и ритмично туда сюда. Это удобно.
Понятно, для простого сознания не имеющий имени предмет как бы не существует. Так что в известном смысле я, став островитянином, добился своего. Я переплыл на другой берег и стал не только безымянен, но как бы и невидим.
Когда-то мне хотелось сделаться писателем, и действительно удалось стать заурядным литератором. Я напечатал дюжину плохих рассказов, опубликовал одной книжкой три слабые повести и написал роман, который никто не хотел публиковать. Скорее всего, это было справедливо. Как и многие мужчины моего поколения, я поздно повзрослел: мужская инфантильность культивировалась прежней властью, которая рухнула, когда мне было уже под сорок. Но к пятидесяти, что называется, я в себе разочаровался. Я понял, что, ежели Бог обделил тебя талантом, писать в расхожем смысле хуже, чем просто глупо, это безвкусно. А, потершись в литераторских кругах, я проникся самым искренним отвращением к собратьям по перу. Это были невпопад начитанные незамысловатые люди из разночинцев, в мятых штанах и никогда не чищенных ботинках, обладавшие самыми посредственными творческими возможностями и, чаще всего, непомерным тщеславием. Стихотворцы тоже были щеконадувными, особенно лауреаты, члены жюри и сидельцы в президиумах. Нет, надувные бывают матрасы, в данном случае следует сказать, наверное, щеконадувательные. Позже стали приезжать с гастролями поэты – эмигранты третьей волны, выпускники советских школ. Я слушал двоих: один был энтомолог из Торонто, другой маммолог из Бостона, один изначально из Ленинграда, другой из Киева. У обоих ради размера в стихах то и дело мелькало словечко вот.
Конечно, попадались мне на пути и люди, несомненно одаренные, но те всегда были в тени, держались тихо, их оттирали подчас виртуозно, обносили с улыбочками, да и они бывали не истинно созидателями, открывателями новых путей, а довольствовались хожеными тропами. Пожалуй, действительно оригинальными среди пишущих бывали поэты, я знал двух таких. Оба, увы, были инвалиды, припадали на все ноги, детский рахит, кажется, люди болезненные, и с возрастом их стихи приобретали черты неведомых шедевров. Оба вызывали скорее жалость, чем восхищение, хоть и было понятно, что места в будущих антологиях им обеспечены.
Почему я начал сочинительствовать.
Ответа нет. Конечно, был внутренний толчок, медленно нарастал зуд и жар, я вдруг почувствовал призвание, услышал голос, зов оттуда. Но, скорее всего, это была лишь слуховая галлюцинация. Болезнь, столь распространенная в нашей стране. Стране насквозь литературной, все читающей да пишущей, но не работающей. А ведь в нашей безотрадной и холодной, некрасивой и недужной, непомерно большой и малонаселенной сравнительно с огромными пустыми пространствами, дурно управляемой, непластичной и немузыкальной отчизне, работы непочатый край. Нет, не отчизне – родине, бабский род, как подмечал еще Василий Васильевич, больше нам к лицу… Ну, и среда конечно, и багаж прочитанных книг.
Теперь было время припомнить, на скольких островах я побывал, прежде чем оказаться на этом.
Лет в пятнадцать, в театре я посетил дивный волшебный остров зловредной феи Сикораксы, но прежде в раннем детстве, с голоса бабушки, гостил на острове Буяне, потом самостоятельно добрался до Баратарии, доставшемся Санчо в губернаторство по дешевке, а там с Панургом достиг Острова Оракула Божественной Бутылки. Заглянул и на Принцевы острова, куда английская королевская династия ссылала не в меру прытких своих родственников. Побывал на острове Отчаяния, где я, прилежный книгочей, делил тяготы с мистером Крузо и его печальным попугаем, все повторявшим Робин, Робин, бедный Робин; и на летающей Лапуте и, конечно, на Острове Сокровищ. Как-то я валялся с ангиной, и отец – едва ли не единственный подобный случай – читал мне вслух о таинственном острове Табор в Тихом океане, среди которого я сейчас и затерялся; этот остров упавшие на него с неба французы обозвали в честь Линкольна, поскольку в их компанию затесался освобожденный от рабства негр – в те времена было модно вызволять из неволи негров. Позже я посетил Итаку, где нас с Одиссеем ждала верная Пенелопа в окружении настырных женихов; с Архимедом на Сицилии, своей вулканической неудержимостью древним напоминавшей ад и сделавший для Гете образ Италии завершенным, искал точку опоры; доплыл и до Пасхи, ведомый капитаном Кон-Тики. Добрался на перекладных до Сахалина с Антоном Павловичем, которому, впрочем, слаще оказался Цейлон; и томился на острове Святой Елены тоже с островитянином, корсиканцем, это уж не без помощи Тарле и Манфреда; и на Мадагаскаре побывал с авантюристом екатерининских времен Морисом; с автором Блохи живал с островитянами в гостях у бриттов; а там погостил и на Капри у Алексея Максимовича, разминувшись, слава богу, с человеком, которому мое поколение было обязано счастливым октябрятским детством, – ни в пионерии, ни в комсомоле я никогда не состоял. В студенческие годы прощался с Матёрой да шлялся по Аптекарскому острову в компании одного одаренного и пьющего питерского сочинителя, давно перебравшегося в Москву путем счастливого брака. Но только уже в относительно зрелом возрасте, достигнув Патмоса, я забыл все прочие острова и принялся то и дело туда возвращаться.
Впрочем, я вовсе не был книжным домашним мальчиком. Как все, гонял мяч во дворе, ухлестывал за девочками, с дружками пил из горлышка дрянное вино по подворотням, доплавался в четырнадцать до третьего взрослого разряда, ходил в горы, бегал на лыжах. Я был живым, ловким, физически развитым парнем, при этом весьма общительным, всегда в кружке дружков, да и дамский пол рано стал меня привечать. И то, что я начал писать, вообще говоря, не так-то просто объяснить.
В шесть, едва бабушка, читавшая мне вслух Гауфа по оригиналу, по ходу чтения переводя, закрыла книжку, я потребовал бумагу и карандаш, заявив, что сейчас сам буду сочинять сказку, – грамоте был обучен с пяти. С тринадцати писал чуть не всякий день: накарябаю каракулями в школьной тетрадке рассказ, и, лишь поставив точку, отправлюсь гулять с девками. И никто меня не учил самодисциплине – графоманское прилежание оказалось врожденным.
Первым ценителем моих ранних опытов стал мой учитель литературы из математической спецшколы, куда меня, ставшего несносным от бурсацкой скуки, по слезной просьбе руководительницы класса в школе районной, перевел отец. Я написал обязательное школьное сочинение на тему Моя любимая книга про Мусорный ветер Платонова, рассказ по тем временам с аллюзиями, тогда этого автора только стали переиздавать. И учитель, вдохновленный и восторженный идеалист, тогда еще бывали такие учителя, позвонил моей матери со счастливым сообщением, что, мол, ваш сын будет писать. Кажется, это был педагогический промах, не нужно пробуждать в незрелых подростках убежденность в их талантах и будущности. Впрочем, моя матушка-полячка, женщина эгоистическая и трезвомыслящая, к этому сообщению отнеслась с прохладцей, тогда как батюшка, физик-теоретик и профессор, хоть и мечтал видеть сына, победно шествующим по естественно-научному пути, отнесся к делу серьезно и торжественно передал мне в окончательное пользование портативную пишущую машинку Mersedes. Но позже все-таки определил на физический факультет университета: на гуманитарный факультет меня не взяли бы как раз ввиду нечленства в комсомолии.