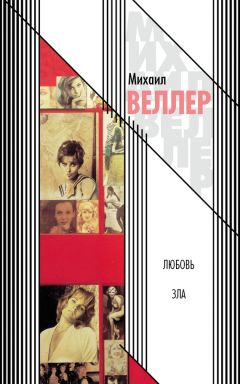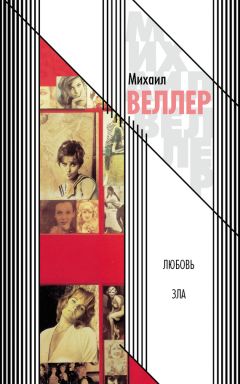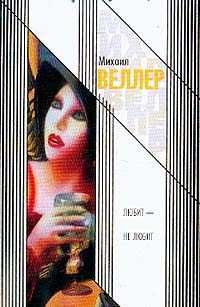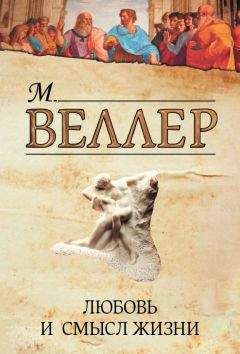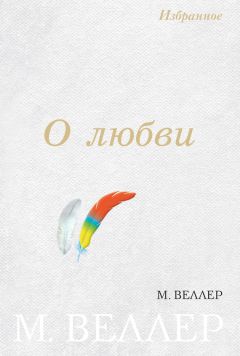Алексей Смирнов - Обиженный полтергейст (сборник)
В этой картине присутствовало нечто сомнительное, и в то же время Глеб ощущал облегчение, совесть его пребывала непотревоженной: ведь тополю ничего не сделалось, он ни капельки не пострадал, а просто приобрел желательные Глебу свойства. Он нагнулся, вынул камень из ямки и принялся ждать – что-то будет дальше? Перемен, однако, не произошло, нарисованный тополь оставался нарисованным. Отныне им можно было спокойно любоваться, не чувствуя при этом никакой ответственности за предмет восхищения. Близкий объект уподобился далеким звездам, при виде которых сердце наполняется печальным восторгом и чье влияние на земного наблюдателя практически не ощутимо, хотя и существует, если верить утверждениям некоторых ученых мужей.
Глеба охватило ликование, он подбросил камень на ладони, и тут же его пронзила мысль: что, если камень окажет на него такое же воздействие? Он, сколько мог, осмотрел себя с головы до пят, похлопал по плечам, бокам, бедрам – похоже, все на месте. Наверно, решил Глеб, обладатель камня не подвержен метаморфозам, имея в то же время власть преобразовывать мир – одновременно великолепный и опасный – в совершенное произведение искусства, в магический неподвижный узор, несущий радость в чистом виде, без примеси страха, без тени сожалений по поводу его несовершенства. Недолго думая, он быстрыми шагами приблизился к следующему дереву, на сей раз разлапистой лиственнице, положил камень в основании ствола и замер в ожидании. Он полагал, что изменения наступят постепенно, но они произошли в мгновение ока, всего лишь десяток-другой секунд спустя. Глеб принялся самозабвенно кружить по скверу, помещая находку то в одно, то в другое место, и все деревья по пути его следования застывали миражами, попутно раскрывая свою внутреннюю, до сих пор недоступную восприятию прелесть. На десятом или одиннадцатом дереве Глеб остановился, как вкопанный: он напрочь позабыл, что помимо него вокруг могут находиться и другие люди – неизвестно, как отнесутся посторонние к его необычному занятию. Очень скоро выяснилось, что никак: редкие прохожие равнодушно проходили мимо, не замечая вокруг себя ничего удивительного.
«Как странно, – подумал Глеб. – Одно из двух: либо они окончательно разучились воспринимать что-либо, кроме самих себя, либо все происходит лишь в моем воображении. В последнем случае получается, что меня одолевают иллюзии, и никакой остановки нет. Тополь рано или поздно рухнет, а затейливый узор обернется фикцией, самообманом».
Но в этот момент к нему подбежал, виляя хвостом, Джим, и Глеб схватил его за ошейник.
– Постой спокойно, дружище, – сказал Глеб и задумчиво повертел камень в пальцах, прикидывая, куда бы его приладить. Был бы намордник – дело решилось бы просто: положил бы, как в мешочек, однако Джим по праву слыл исключительно мирным, приветливым псом, и намордника ему не покупали. Подсунуть под ошейник? Выскользнет, как пить дать. Или нет? Попробовать, во всяком случае, стоило. Он оттянул ремешок, сколько мог, и прочно утвердил камень на собачьем загривке.
5
– Мама, мама, смотри – собачкин памятник!
Крохе лет пяти стоило немалых трудов притормозить мамашу, дебелый сонный инкубатор о двух ногах. Та, наконец, остановилась и внимательно всмотрелась в предмет, на который возбужденно указывала дочка. На белом заплывшем лице проступило настороженное недоумение. При первом же крике девчонки Глеб поспешил устраниться: он быстро отошел в сторону, закурил и сделал вид, будто ничто из окружающей действительности не имеет к нему отношения.
– Можно, я подойду потрогать? – в вопросе заранее звучало отчаяние.
Родительница хмурилась, не зная, как решить.
– Пошли отсюда, – приказала она в конце концов.
– Ну мама! – страшные ожидания полностью подтвердились, кроха топнула ногой.
– Я кому сказала!
Дети – они наблюдательные, все подмечают. Дождавшись, когда дочки-матери покинут двор, Глеб крадучись приблизился к Джиму и сделал попытку его приподнять, подсунув руку под брюхо. Джим не сдвинулся с места, подобный плоской деревянной лошадке, прочно загнанной в грунт для услады ребятишек. Немигающие собачьи глаза смотрели прямо на хозяина, в приоткрытой пасти окостенел язык. Хвост-пропеллер, застигнутый параличом в момент бешеной раскрутки, торчал под углом к основной телесной плоскости. Глебу стало очевидно, что пес так и останется во дворе. Рано или поздно он сделается предметом дискуссий, начнется паломничество ученых, а потому надо спешить. В конечном счете виновника вычислят, обложат, словно зверя, попытаются захватить, изолировать. Создадут резервацию, обнесут заборами и колючей проволокой. Что ж – придется их упредить, отхватить себе под санитарную зону как можно больший кусок пространства. Необходимо придумать способ обезопасить себя по возможности эффективно и быстро. Вряд ли ему удастся сделать узором весь мир, на это не хватит жизни, но часть мира, среду постоянного обитания, малую родину…
В последний раз бросив взгляд на дело рук своих, Глеб устремился домой. На ходу он придумывал убедительный рассказ про Джима – как он потерялся, какие меры будут приняты с целью розыска. Не стоило слишком напрягать мозги, поскольку врать придется недолго. Глеб ворвался в квартиру возбужденный, хлопнул дверью, в отчаянии швырнул поводок.
– Завтракать будешь?
Мать, вытирая руки посудным полотенцем, вышла в прихожую.
– А где собака?
– Представляешь, – затараторил Глеб, вращая глазами, – смылся! Только-только был рядом – и нет! На-ка, подержи…
Он сунул матери камень, и та машинально сгребла его в горсть.
– Так надо поискать! – она удивленно вскинула густые, колючие брови. – Что это за штука?
– Держи, не урони! – приказал Глеб вместо ответа. – И ради Бога – не клади никуда! Ну, хочешь, сунь в карман передника.
– Черт знает, что, – проворчала та, пожимая плечами. Она их так и не опустила, Глеб даже непроизвольно зажмурился. От матери остался только образ, и Глебу на миг померещился серебристый оклад. Камень выпал, со стуком ударился об пол и немного прокатился. Мать стояла неподвижно, с бессмысленным удивлением, увековеченном во взоре. Обойдя фигуру боком, Глеб перебрался в отцовскую комнату. Батя уже сидел на постели и совал босые ноги в шлепанцы: шум привлек его внимание, и он намеревался выяснить, что происходит. Глеб опустился рядом и положил на отцовские колени предусмотрительно подобранный камень.
– Батя, ты только не перебивай, – начал Глеб. – Это потрясная штука. Это… это… как бы тебе растолковать… м-м-м… – Он замычал, якобы расписываясь в неумении подобрать слова. Отец, от природы любопытный до чертиков, терпеливо ждал, готовый на время забыть недавнее оскорбление. – М-м-м… – не унимался Глеб. – В общем, иду я по тропинке, вижу – что-то странное валяется, вот-вот наступлю. Ты меня слушаешь? – Он задал этот вопрос просто так, хотя и знал наверняка, что уже никто его не слушает: ухо прежде разума отметило остановку хриплого старческого дыхания. Глеб чуть отодвинулся и посмотрел: ну, вот и все.
Он тихо встал и бесшумно вышел вон, прошел к себе, стараясь не касаться иконописной матушки. Очутившись в своей комнате, подошел к окну, осторожно отвел занавеску. Окно выходило на пустырь, Джима и деревьев видно не было – чтобы их узреть, надо отправляться на кухню, но Глеб почувствовал, что сейчас не может этого сделать. Поэтому он оставался стоять истуканом и жадно высматривал в пейзаже признаки нездорового оживления, паники, суеты… Снаружи, однако, было тихо и буднично. Глеб отвернулся.
Семейный альбом – вот на что это похоже, подумал он. Семейные альбомы он мог рассматривать часами, буквально сливаясь с черно-белыми жуками в черно-белом же янтаре. Ему никогда не надоедало вновь и вновь устанавливать внутреннюю связь с теми, кто ушел навсегда, или с теми, кто сами по себе пока еще находились рядышком, вживую, но те, кем они некогда были, переместились на картон – то глянцевый, то матовый. Они – и первые, и вторые – всегда находились под рукой, он мог вести с ними пространные беседы, лишенные подчас всяческого содержания – порой дело доходило до элементарных гласных звуков, и Глеб тогда останавливался, пребывая не в полном еще сознании, находясь в лишенном бытия промежутке между двумя мирами. Иначе, как сентиментальностью, такое не назовешь. И что же в сентиментальности ужасного? Всегда, стоит сбиться на сантименты, присоединяется непонятный стыд, возникает неловкость, желание сотворить некое хамство вопреки недавнему настроению. Видимо, с тем, кто любит жизнь настолько, что не смеет оказаться с нею лицом к лицу и вынужден ограничиваться созерцанием, полным грусти, не может быть по-другому. Да, он не в силах выносить все, что любит, в натуральном, трехмерном виде – пусть тогда будут узоры. Они не заговорят, не обидят, не ударят, но зато навсегда останутся при нем, под боком, готовые к безмолвному общению. Жаль, что в альбоме не будет Дианы, он бы выделил ей отдельную страницу. Но Диана, если и придет, то только вечером, а к вечеру в округе многое изменится. Скорее всего, она просто не осмелится дойти до квартиры. Он много бы дал за возможность увидеть ее обездвиженной, в неугасаемом сиянии внутренней красоты, ставшей наконец-то видимой.