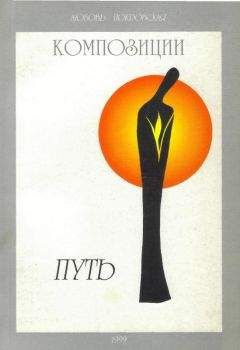Ольга Покровская - Булочник и Весна
– Ну и чего? – сказал он, оборачиваясь ко мне. – Сильно я себя унизил? Петьке скажи: мол, Михал Глебыч гостю песенку сыграл – и ничего! Не умер небось!
На этих словах он встал с банкетки и, взяв свой подарок, принялся с хрустом рвать бумагу. Распаковав, подошёл к окну и, держа рисунок на вытянутых руках, вгляделся. Горячий весенний свет ударил на поляну – забурлило яблочное варенье, медовый гул перебил запах шампуня, которым мыли полы.
Я внимательно смотрел на Михал Глебыча – его рябое лицо стало детским. Он прислонил рисунок к стеклу и несмело, словно боясь обжечься, «макнул» палец в варенье. Вытер о штаны и – опять несмело – погладил пальчиком свою шевелюру, рыжую на зелени лета.
Я наблюдал за ним, слегка улыбаясь. Он покосился на меня и, вздохнув тяжелёхонько, перенёс картину в кресло. Спрятал руки в карманы штанов, прокашлялся.
– Я прямо плачу! – наконец произнёс он. – Типа решили: вот узрит себя Михал Глебыч в раю, с вареньем, и странствовать пойдёт?
– Вроде того, – кивнул я и собрался уже выйти за дверь, но вспомнил поручение Ильи. – Михал Глебыч, Илья сказал, чтобы вы Лёню в покое оставили.
– Чего-чего он сказал? – прищурив один глаз, переспросил Пажков, но развивать тему не стал. Наверное, в выражении моего лица ему увиделся край, струна, за обрывом которой последует каскад непредвиденных чудес. Вряд ли Михал Глебыч боялся чьей-то там непредвиденности, но сегодня, после такого подарка, ему не хотелось войны.
Он сделал вид, что раздумывает. Рябой его лоб наморщился и стал маленьким. Медные брови сошлись над переносицей.
– Как липку меня обдираете! – воскликнул он. – Ну да ладно! Раз Илюша просил – забирай его к лешему, Лёню вашего! И скажи, Пажков для убогих из интерната больничку строит! Прямо в сосняке за Отрадновом! Денежки выделили – мы и подрядились! Краны уже пригнали. Построим и свезём всю братию назад. Так ему и скажи: не за что Михал Глебыча было клеймить – он добрый!
Я кивнул. Мне захотелось обнять его на прощанье, потому что, несмотря ни на что, Пажков тоже был человек, землянин. Но из солидарности с Петей я сдержал свой порыв.– Ну а сам-то он где, виновник торжества? – полюбопытствовал Пажков, провожая меня до дверей. – Ну Илюша, Илюша где?
– Он спит, – зачем-то соврал я, хотя, может, это была и правда. – Он очень устал.
– Где спит-то?
– В электричке, – отозвался я. – Михал Глебыч, ты его больше не будешь дёргать.
– Ох, мама моя! – вздохнул Пажков и с выражением печального упрёка, как-то даже облагородившим его рябое лицо, поглядел на меня. – Сколько ж чудиков на земле! Чего мне делать-то с вами?
Это была наша последняя встреча с Михал Глебычем.85 Скоро лето
Подъезжая к родительскому двору, я позвонил – сообщить, что вот-вот заявлюсь, но мамы не оказалось дома. У Майи сегодня обнаружились дела, забирать Лизу из школы выпало бабушке, а это было не близко.
Бросив машину в родном дворе, я вышел на грязную, со счищенным с газонов снегом улицу и потопал к Пете. Точнее, к Петиным родителям, куда я отвёз его вчера. Его телефон был выключен, и я чувствовал себя вправе явиться без пр едупр еждения.
Дверь открыла Елена Львовна. Её красивое лицо показалось мне не расстроенным даже – убитым.
– Костя, растолкайте его как-нибудь! – проговорила она полушёпотом. – Я вас очень прошу – не отступайтесь! – С тех пор, как в музыкальной школе я не проявил интереса к её предмету, она называла меня на «вы».
Войдя, я застал Петю на диванчике в той же позе, в какой оставил вчера.
В сером свитере с горлом, в шерстяных носках, укрытый сбившимся пледом, он лежал на боку, подтянув колени, руки со сжатыми кулаками скрестив на груди. Разве что голову чуть повернул – чтобы было удобней смотреть на тополь в окне. Его синеватое от пробившейся за сутки щетины лицо показалось мне незнакомым.
К дивану был придвинут столик на колёсиках с тарелкой фруктов и рюмочкой коньяка – напрасной заботой Елены Львовны.
– Петь! Чего это ты? И коньяк не пьёшь. Ты часом не заболел? Или так, отдыхаешь?
Он махнул ресницами – «да».
Я сел на корточки рядом с диваном и, примерившись, сжал в ладонях его голову, крепко, как будто хотел отвинтить с плеч. Он даже не дёрнулся. Только сказал:
– Волосы больно.
От молчания его голос затёк, разбух, как двери по весне.
Ища, за что зацепить разговор, я оглядел комнату. На журнальном столе были развалены ноты.
– Мамины? – кивнул я, припоминая, что свои Петя угробил.
– Наташка ушла перед тобой…
– А чего хотела?
– Шумана «Юмореску»… – Он вздохнул и чуть заметно усмехнулся. – Заходит: чего, мол, лежите? – Ногу, говорю, сломал. – Как же, вот же у вас гипса нет! – Ну, значит, голову! – Плачет. Я говорю: Наташ, чего ревёшь, я ж не в гробу!.. Теперь припрётся с «Юмореской» своей, скажет: помогай!..
– А может и хорошо, что припрётся? Может, тебе этого и надо – сесть и играть? На музыку ведь глупо обижаться!
– А я на неё и не обижаюсь, – тихо проговорил Петя. – Музыка сделала бы для меня всё, я знаю. Просто у неё нет блата в мире людей.
– Так тем более! Что мыслишь-то себе в связи с этим?
– Вернусь преподавать, – отозвался он. – Пулю-то вроде вынули…
На этом, исчерпав свои небольшие силы, Петя закрыл глаза и снова ушёл в «позу эмбриона». Я не знал, что делать с ним.
– Петь, тут вот ещё какое обстоятельство. Я бы на твоём месте в срочном порядке перебазировался домой, ну или хотя бы телефон подзарядил. Ты если не в курсе, он у тебя в отрубе.
Петя качнул головой.
– Она не приедет.
Я протянул ему ладонь:
– Спорим – уже в электричке!
Но Петя не захотел спорить со мной. Пошарив за спиной, он наволок на голову плед так, что остались видны одни глаза. Сквозь отражённые в радужке ветки тополя мелькнула комната, а в ней поникший над клавишами абитуриент Петя, и я, беспечно решивший стать «булочником».
Закрывая за мной дверь, Петина мама взглянула на меня скорбно и вопросительно.
– Да нормально всё будет, – сказал я. – Всё будет хорошо.
Вернувшись к себе во двор, я увидел на детской площадке моих – маму и Лизу. Спёкшиеся останки снеговиков и крепостей, как южные камни, омывались морем весны. На одном таком «валуне» сидела Лизка и, водя по луже веткой, любовалась бензинной радугой.
Заметив меня, она не подбежала, только улыбнулась и помахала прутиком.
– Как дела? – спросил я, подойдя к стоявшей на берегу разлива маме.
– А, ты уже здесь? – недоверчиво оглядела она меня и всё-таки чмокнула в щёку. – Как дела! Посмотри на свою дочь! Она же вся белая! Зелёная! Фигурное, да ещё эта гимназия дурацкая. Туда на автобусе, обратно на автобусе. Говорила – отдайте поближе. Не жалеют ребёнка!
– Лизк! – крикнул я. Она встрепенулась и подняла голову. – Как ты смотришь, если я по утрам буду тебя в школу отвозить, вместо автобуса?
Лиза тут же спрыгнула с «валуна» и, хлюпая по морю, примчалась. Она была в забрызганной розовой курточке и таком же берете. Майя одевает её, как поросёнка, но я не собираюсь вмешиваться. Пускай. Поросёнок – это прекрасно!
– Бабушка, ты иди, готовь обед! – сказала Лиза. – Мы с папочкой погуляем и придём.
– Ты хоть подумал, что предлагаешь? Взвесил? – с укором посмотрела на меня мама. – Ладно. Через полчаса обедать! – и быстро пошла к подъезду.
Вопрос со школой был улажен в момент. Лиза позвонила Майе и, выбив из ошеломлённой матери согласие, перешла к делам поважней. Едва она узнала о моём возвращении в Москву, милосердный и практический её дух встрепенулся.
Крепко взяв меня за руку и ведя вдоль «моря», Лиза принялась излагать тревожащие её обстоятельства. Во-первых, знаю ли я, что у деда сломалась машина? Да-да! Уже месяц прошел, и не чинят. То ли совсем сломалась, то ли дорого ремонтировать. Во-вторых, бабушка переживает: на кухне стал плохой потолок, пора делать ремонт. А дедушка считает, что потолок ещё вполне пригоден для жизни. Чуть ли не поругались. Папочка, ты там разберись с потолком!Разговаривая, мы прошли дворами, мимо музыкальной школы, мимо берёзок, где в детстве с Петей играли в футбол, и вышли в куцый яблоневый сад, на две трети снесённый под новостройку. Лизка шла, касаясь ладошкой низких ветвей. Яблони во сне улыбались ей, веселили её, как девушки – царевну. Ещё не настало время проснуться, но от стволов и веток уже шёл едва уловимый медовый звон.
Мы с Лизкой шагали бесцельно по оттаявшей земле, и нечего было добавить к счастью. Оживает природа. Душа, заросши нежностью, как бурьяном, больше не может принять на постой никакую ревность или обиду – просто нет свободного места.
– А через месяц, Лизк, поедем к Илюше на Пасху, – сказал я. – Он нас звал. Давай – твёрдо решим и поедем! Возьмём ещё Петю и Ирину с Мишей!
Так, за болтовнёй, ноги сами принесли меня туда, откуда я пришёл полчаса назад, – к дому Петиных родителей.
– Ну что, к Петьке? – спросил я у Лизы, когда через калитку в чёрной ограде мы зашли на ухоженную территорию их дома.