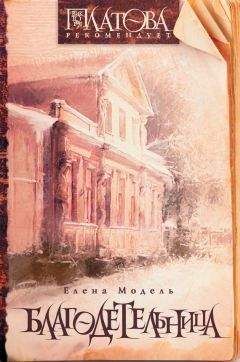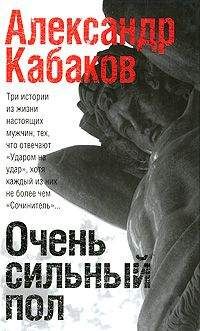Сергей Кумыш - Как дети (сборник)
Когда пришла она, я просто понял, что это она. Я понял, почему тогда подошел к ней. Она была единственным вариантом развития дальнейших событий.
Уже через несколько минут (секунд?) мы ругались. Мы снова раздражали друг друга. Но каждый раз, когда я перебираю в памяти все хорошее (а хорошего было много), первым делом я вспоминаю – в основном только это и вспоминаю – апельсиновое пирожное, те несколько моментов какой-то особой общей тишины. И это больше, чем счастье. Это интимнее любой близости.
Вот так и получается. Думаешь о любви, а вспоминаешь апельсиновое пирожное. Вспоминаешь апельсиновое пирожное и чувствуешь любовь. Никто не знает, что это такое. Никто не знает, как оно выглядит. Вот мы и придаем этому – каждый свою – форму. Шоколадно-оранжевый треугольник из дешевой кондитерской.
Мы лежали. За окном был день. И у нас в комнате был день, но мы лежали. И вдруг за окном пошел снег. Нет, он пошел не вдруг, он просто пошел. Это был не первый снег. Стоял декабрь, снег лежал уже повсюду. И я сказал ей: «Посмотри, какой снег».
Мы много раз видели снег. Мы видели снег из окна, мы попадали под снег. Иногда он шел тихо. А иногда был снегопад.
– Посмотри, какой снег.
И она посмотрела. И он ей тоже понравился.
Стою на углу дома. Стою на углу ее дома. Мы не виделись давно. Мы решили увидеться. Мне ничего от нее не надо. У нее тоже кто-то есть. Почему-то волнуюсь. Отчего этот страх? И блаженство? Это она.
И я вижу ее.
Девушка, похожая на меня
Когда мы расстались (он сказал, что больше не любит меня; конечно, он что-то еще говорил), я потом долгое время, добираясь куда-нибудь на метро, пыталась увидеть девушку, которая могла бы ему понравиться, которую бы у меня получилось рядом с ним представить. Мне ни одна так и не понравилась. Не знаю, есть ли у него кто-нибудь сейчас. Просто если есть, то – кто?
У него такие волосы, они когда побольше отрастут, им можно придавать любую форму. Я проводила по ним, и они повторяли линию моей руки. Он так и ходил – то с пробором слева, то с пробором справа. Больше всего мне нравилось, когда он откидывал волосы назад или когда я ему их так зачесывала. А потом все само собой снова растрепывалось.
Я не ожидала, что все так резко закончится. Когда он сказал, что нам надо поговорить, я, честно говоря, сразу как будто почувствовала – по его голосу, по тому, как он подбирал слова. Но отогнала эти мысли, заставила себя думать (верить), что он действительно просто хочет о чем-то поговорить.
Говорил только он. А я приехала, окончательно забыв свое первое предчувствие, то, что осталось после телефонного разговора. Поэтому я оказалась совсем не готова услышать то, что услышала. И забыла то, что сама собиралась ему сказать. Вспомнила, когда уже ехала домой. На какую-то секунду даже стало почти смешно. А потом сразу – совсем не смешно.
Он почти не смотрел на меня тогда. Сидел прямо, не откидываясь на спинку скамейки, зажав сведенные ладони между коленями. Изредка поглядывал в мою сторону, но так, как будто разучился на меня смотреть, как-то неумело, исподтишка, как будто отщипывал от меня по маленькому кусочку и снова уходил в себя.
Я слушала его и чувствовала, как скамейка еле заметно вибрирует от звука его голоса. Раньше, когда мы стояли или лежали обнявшись и он что-то говорил, я всегда чувствовала эту вибрацию в его спине и она по моим рукам передавалась мне. Сейчас я сидела рядом с ним, смотрела на него, как он поеживается и вздрагивает – то ли от первого сентябрьского ветра, то ли еще от чего-то, слышала его, чувствовала, как этот вибрирующий звук проходит через меня, но – впервые в жизни – во мне не задерживается. Наверное, в какой-то момент я слишком зациклилась на этом, и у меня не получилось внимательно выслушать то, о чем он говорил. Поэтому когда он добрался до самого главного, до того, зачем он ехал сегодня сюда, в этот парк, когда наконец нашел в себе силы это высказать, я так и не поняла – почему. Я знаю, что все это время он мне объяснял или пытался объяснить, но, видимо, я слишком сосредоточилась на скамейке, которой передавался его голос – точно так же, как когда-то он передавался мне.
Он что-то еще договаривал, попытался обнять меня одной рукой – как-то ужасно неловко, как будто в первый раз видел и не знал, как ко мне подступиться. Как будто даже поцеловал (поцеловал?) в щеку, по-отечески. И вот он уже удаляется вглубь парка, к выходу. Его мальчишеская спина в кожаной куртке, ноги, всегда как-то по-особому его несущие (в детстве мне читали сказки – про Питера Пена, про Гамельнского крысолова – наверное, именно так я представляла себе их походку: грациозные и сильные ноги-спички, ступающие так легко, как будто несут на себе невесомое тело). Он шел не оглядываясь, и я следила за ним, пока его силуэт не затерялся среди прочих.
На его щеках всегда гулял такой, как будто морозный, румянец. Причем невозможно было определить, из-за чего он появлялся. Это не было связано с какими-то моментами неловкости или стыда. Точнее, с ними тоже, но определить, от чего и когда он в следующий раз покраснеет, было невозможно. Это просто было его особенностью, а не индикатором внутреннего состояния. Причем краснело не лицо, а именно (и только) щеки. Вдруг вспыхивали ярким морковным цветом. Он и сам чем-то похож на морковку: такой же вытянутый, крепкий, остроносый.
Интересно, до последнего момента на самом деле ничего нельзя было понять или я просто не замечала? Ведь он сказал, что охладел ко мне («почувствовал охлаждение», так, кажется, он сказал), это же, наверное, произошло не сразу, я должна была что-то заметить, заподозрить, почувствовать, в конце концов. Только один раз мне действительно показалось, что что-то изменилось. Все остальное я просто списывала на свою излишнюю впечатлительность, старалась не думать об этом. Но в тот раз я на какое-то время по-настоящему задергалась.
У меня дома лежал его свитер. Он однажды приехал в нем, а уезжая, забыл. И потом, еще несколько раз приезжая, забывал забрать. А я ему не напоминала, мне нравилось, что этот свитер лежит у меня. Свитер пах его квартирой, его потом и еще чем-то трудноопределимым, что, наверное, и было «его» запахом. Я иногда прижимала этот свитер к себе, подносила к лицу, иногда просто несколько секунд смотрела на него, открыв шкаф и обнаружив среди своих вещей. Было здорово иногда как будто забыть, что он у меня, а потом снова его обнаружить. Однажды я не удержалась и надела этот свитер (даже странно, почему я его раньше не надевала, от чего я, собственно, удерживалась). Постояла в нем перед зеркалом, посидела в нем. Вечером, убирая вещи в шкаф, я обнаружила, что его свитер больше не пах им. Я написала ему смс: «Твой свитер больше не пахнет тобой :-(». Ответил он довольно глупо: «Теперь он пахнет тобой :-)». Это же очевидно, он ведь у меня. Но почему-то в этот момент мне стало очень грустно и не по себе. Как будто какой-то его призрак все время был со мной и вдруг меня покинул.
Я говорила себе, что это ужасно глупо, говорила себе, что это ничего не значит. Конечно, просто совпадение, моя же капризная выдумка, но после этого мы встречались еще от силы три недели. Кстати, свитер до сих пор у меня. Обычный серый свитер, сделанный на какой-то фабрике, потерявший его запах и форму. Дешевая безликая вещь.
Он любил ругательства и довольно часто при мне ругался (на меня – никогда; был один случай, но он попросил прощения, и я его простила). Я в такие моменты смотрела на него критически, почти осуждающе, хотя и знала, что он обожает этот мой взгляд, а я на самом деле обожала, когда он ругается. У него это выходило как-то задорно и совсем не грубо. Этим же своим звенящим голосом он говорил мне вещи, которые при ком-то третьем сразу стали бы бесстыдными. Но он говорил это только мне, глядя в глаза, прямо куда-то в меня. Когда он так со мной разговаривал, у меня внутри как будто лопались воздушные шарики (я слышала выражение «бабочки в животе», но на бабочек это точно не похоже). Вот и сейчас, когда я просто вспоминаю, снова эти воздушные шарики.
Наш с ним первый раз не был каким-то особенным. Собственно, в первый раз у нас вообще ничего не получилось. Я ничего не почувствовала. Точнее, я чувствовала, что он как будто стучится в меня, мне было больно. Но не было ощущения, что это какой-то особенный момент, что мы совершаем что-то долгожданное и удивительное. Он выглядел запыхавшимся, чуть ли не беспомощным и при этом очень сосредоточенным. Я думала о нем, мне хотелось, чтобы у него все получилось, потому что было видно, насколько для него это важно, насколько ему надо, чтобы сейчас все произошло. Он старался быть нежным и был одним сплошным комком нервов. Я настолько была занята им, что про меня саму мне напоминала только эта волнообразная боль и не очень понятные ощущения там, куда он так стремился. Все получилось в другой раз. Это была уже совсем другая боль, совсем другой он и абсолютная ясность того, что это произошло.