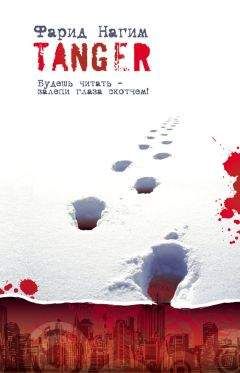Макс Фрай - НаперSники синея
Как потребитель культурных ценностей я, повторюсь, в ужасе, и мне хочется немедленно все отменить. Но рассматривая ситуацию с позиции, скажем так, Мироздания, я понимаю, что начался очень правильный процесс. И хорошо бы он не заглох.
Мне не раз доводилось встречаться
с концепцией, гласящей, будто художник так счастлив в процессе простигосподи творчества, и еще более счастлив, когда его простигосподи творчество получает внимание почтеннейшей публики, что должен работать бесплатно. Концепция, конечно, хорошая, но слишком, я считаю, гуманная и мягкотелая: от голода человек подыхает довольно долго и еще много дополнительных смыслов может успеть смастерить на коленке в процессе, так что лучше сразу серебряная пуля и осиновый кол для верности, меньше будем мучиться и мучить почтеннейшую публику своими сияющими смыслами, которыми ни одного лба все равно не прошибить, но сердце растревожить все-таки можно.
Мокрый снег —
это даже лучше, чем труп врага, проплывающий по реке. Весь годовой запас злорадства и немилосердия можно израсходовать, глядя, как он тает, еще не коснувшись земли. И думая: вот тебе, вот тебе, вот тебе!
В некоторых вопросах я – злобный психопат.
Мутабор
В раннем детстве мне казалось, что мой человеческий облик – явление случайное и, уж точно, кратковременное. Прежде было как-то иначе (вот-вот вспомню, как именно), сейчас так, а скоро превращусь во что-нибудь еще. Например, в облако, ветер или воду. Хорошо быть текущей водой!
И так странно было каждое утро просыпаться все в том же твердом человеческом виде. Не печально, не обидно, а просто удивительно: как, опять? Ну надо же. Ладно, значит завтра. Ждем.
Почему бы не подождать.
Кто же знал, что за первые пару лет беззаботного ожидания привычка быть человеком успеет стать прочным фундаментом бытия. И однажды, наблюдая, как утекает в открытое сливное отверстие ванны вода, я заору от ужаса и потребую, чтобы меня немедленно вынули, завернули в полотенце, унесли и спасли от неизбежного утекания в черную дыру. Потому что в этот момент мне еще было известно о дивной возможности превращения во что угодно, включая жидкость, но уже панически страшно, что она реализуется прямо сейчас.
Это называется: добро пожаловать в человеческий мир. Страх – обычная входная плата. А на сдачу, как я понимаю теперь, новым членам клуба дают утешительное забвение, помогающее ужиться с таким положением дел.
Меня в той кассе, получается, обсчитали. Поэтому я довольно много помню о тех смутных временах, когда текучее как вода существо принимает человеческую форму и начинает застывать.
Я умею читать с трех лет; так получилось. Моими первыми книжками стали родительские журналы «Крокодил», «Вокруг света», «Наука и жизнь»; годом или двумя позже появились настоящие детские книжки. Сказки, конечно. Считается, будто это – самое подходящее чтение для детей.
Кстати да, вполне подходящее. Именно в волшебных сказках рассказываются по-настоящему страшные вещи. Все эти журналы для взрослых с красочными картинками, наглядно иллюстрирующими строение кишечника, и карикатурными изображениями взрослых дядек, избивающих ремнем детей, ни в какое сравнение не идут. Хотя все равно, конечно, ужас. В своем роде.
Но сказки – страшней.
Вот, например, история Вильгельма Гауфа про калифа-аиста.
Если не помните, там повествуется о том, как калиф Хасид и его визирь недорого, по случаю закупились волшебным порошком для превращений; к порошку прилагалось волшебное латинское слово «мутабор», которое следовало произнести, чтобы превращение состоялось. Это же самое слово «мутабор» следовало произнести еще раз, чтобы снова стать человеком. «Будучи превращенным, остерегись смеяться, иначе волшебное слово совершенно исчезнет у тебя из памяти, и ты останешься зверем», – предостерегала инструкция, приложенная к порошку.
Ясно, что они рассмеялись и тут же забыли нужное слово. Если бы сказочные герои не нарушали запреты, то и рассказывать было бы не о чем.
Далее следует история об отчаянии, поиске выхода, волшебной помощнице сове, хвастливой болтовне злых колдунов, счастливом спасении героев, наказании разбушевавшихся в отсутствие калифа злодеев и неизбежной женитьбе на прекрасной принцессе; она меня, признаться, не особенно заинтересовала. Слишком велико было потрясение от неожиданного открытия: превратившись во что-то иное, мы можем утратить память о чем-то самом важном.
А память, казалось мне в детстве, это и есть «я». Забыл волшебное слово – и ты больше не калиф. Все сходится!
Теперь-то я знаю, что это не так. Генри Джекил помнил все выходки Хайда, Хайд знал о делах и замыслах Джекила, но память не давала ни одному из них власти над другим.
И вопрос тут не в том, насколько достоверно описывает жизнь литература (что касается поведения в измененных состояниях сознания, Стивенсон вполне точен). А в том, есть ли кто-то кроме Джекила, Хайда и еще кучи персонажей, которыми теоретически мог бы стать доктор Джекил, окажись его эксперимент более успешным и продолжительным.
То есть кто именно превращается?
Поиски ответа на этот вопрос сродни поискам эликсира бессмертия. Впрочем, почему «сродни»? Это одна и та же задача.
Ясно же, что Джекил, Хайд, аист, калиф, хохочущий ребенок в тяжелой цигейковой шубке, только что впервые в жизни свалившийся с санок, старик, поскользнувшийся на обледеневшем крыльце семьдесят лет спустя – только маски на бесконечном празднике превращений, данных нам не столько в эффектных ощущениях, сколько в осознании – чаще потом, задним числом, но иногда и мгновенном. И если существует что-то, хотя бы отчасти соответствующее значению местоимения «я», оно – не одна из масок, а тот, кто их носит. Тот, кто давным-давно забыл волшебное слово «мутабор», но однажды обязательно вспомнит, и тогда калиф возвратится домой, Джекил и Хайд обнимутся, станут восклицать, перебивая друг друга: «Ты помнишь?!» – а старик, упавший с крыльца, подскочит, как резиновый мячик, рассмеется и побежит, неуклюже путаясь в полах своей цигейковой шубки.
Мы думаем
Я думаю: «Боже мой, кошечка так меня любит, так любит. Спит каждую ночь со мной, прижавшись к боку теплым животом, не встает, пока я не проснусь, а потом, наевшись и наигравшись, снова ложится на мою кровать, только там теперь и дрыхнет, словно других мест в доме нет».
«Блин, – думает Маленькая Белая Кошка, – ну когда ты уже поймешь, балда, что это теперь МОЯ КРОВАТЬ! И найдешь себе какое-нибудь другое спальное место».
И вытягивается как колбаса, и раскидывает в стороны все четыре лапы, чтобы занять как можно большую площадь и наглядно показать глупому человеку, что больше ни для кого места в этой кровати нет.
Мы сидели на дурацких железных стульях
возле маленького «Кофеина» на Диджои, а мимо шла и шла бесконечная вереница совсем новеньких взрослых людей, не то старшеклассников, не то студентов-первокурсников, все с большими рюкзаками, некоторые еще и с рулонами пенки, и их было очень много, без преувеличения, несколько минут шли мимо нас. Выглядело это так, словно все уведенные из Гамельна дети наконец-то подросли и вот добрели до нас, привет.
Но про крысоловьих детей мне только сейчас пришло в голову, а тогда, на улице Диджои, была совсем другая версия. Как будто города время от времени обмениваются жителями. «Ой, – говорит один город, – что-то тут у меня внезапно переизбыток эффективных менеджеров под сорок и слегка за, расплодились, не продохнуть, может надо кому?» «Отлично, – отвечает другой город, – у меня их как раз вообще почти нет, а ведь в умеренном количестве они очень нужны, есть дела, которые больше никто не сделает. А у меня сплошная молодежь, балбесы бестолковые, очень славные, но совершенно непонятно, где их учить и чем кормить, давай меняться».
И города бьют по рукам, после чего аэропорт одного из них внезапно заполняется усталыми людьми с холеными лицами и дорогими чемоданами, которые, задай им вопрос, на кой их внезапно понесло из одной налаженной жизни в другую такую же, на секунду станут растерянными, потом опомнятся, скажут: «По контракту», – подхватят дорогие чемоданы и отправятся на стоянку такси. А по улицам другого города будет брести толпа молодежи с рюкзаками, вот как у нас.
Н
На Антокольске, возле кафе «Rene»,
где еще на прошлой неделе выставили на улицу столы, зацвела дикая слива. То есть вот натурально, совсем-совсем зацвела, белая пена, все дела. Остальные фруктовые деревья еще даже думать в эту сторону не начинали, а она – уже.
Видимо, некоторые городские деревья реагируют не на длину светового дня и температуру воздуха, а на человеческое поведение. Смотрят: ага, кафе выставили на улицу столики, ясно, значит весна, пора цвести.
«Людям виднее, когда весна, они существа примитивные, дикие, у них инстинкты, их не обманешь», – думают городские деревья. И в чем-то они, несомненно, правы.