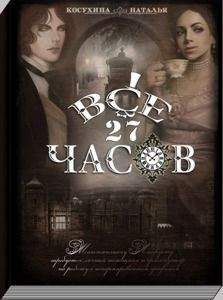Эден Лернер - Город на холме
− Только у меня еще и свои соображения имеются, – продолжал следователь. – Хамас не Хамас, но ее все равно убьют. Брат с отцом.
− За что?
− За то самое, за что они убивают своих дочерей и сестер. В день ареста Ранию осматривал врач. Очень интересные результаты. Синяки на ногах, ожоги на руках. И откупорить ее кто-то тоже уже успел.
Я еле справился с лицом. Что за лексикон – откупорить! Сразу видно, человек в кибуце вырос.
− Сам видишь, тюрьма для нее сейчас самое безопасное место.
Через три дня из Хиллари, наконец, вынули трубку. Разговаривать она еще не могла, потому что горло было воспалено и голос пропал, но она сидела в постели, жестикулировала, улыбалась, писала энергичные, но трогательные записки и зажгла субботние свечи. Жажда общаться после стольких дней комы и вынужденного молчания буквально распирала ее, субботний запрет на писание ее не остановил, и в субботу она общалась, указывая на детский плакат с буквами. Она еще не знала того, что понял Ури из разговоров с коллегами-врачами. Есть шанс, что после травмы позвоночника она снова научится ходить, но это не такой большой шанс, чтобы на него рассчитывать.
На исходе субботы я нашел в интернете заявление пресс-службы ЦАХАЛа, которое поставило на уши не только нашу, но и зарубежную прессу. Там говорилось, что с Рании Наджафи сняты все обвинения в террористической деятельности, но отпустить ее из тюрьмы не представляется возможным, потому что на территории Палестинской автономии ее ожидает смертная казнь за принятие христианства. Как известно, палестинская конституция основана на шариате, а какое наказание предусмотрено за отказ от ислама, всем известно[296]. Медиа-вакханалия тянулась еще долго, но ни одна европейская страна не предложила Рание убежище. Может быть, для кого-то это и было неожиданностью, но только не для меня. Вот они, европейцы. Они на весь мир кричат каждый раз, когда кто-то из наших поведет себя по-дурацки, например, перережет в арабском дворе кабель или обтрясет дерево. На большее их не хватает. Они боятся мусульман. Они готовы отдать мусульманам свои страны, своих близких, свои святые места. Какое им дело до девочки, которая уже больше христианка, чем все они вместе взятые. Она отказалась убивать, хотя прекрасно знала, чем ей это грозит.
Хиллари перевели в реабилитационный центр там же, в Беер-Шеве. В ее комнате всегда толпился народ, звучала музыка, и она еще подбадривала всех заявлениями:
− Ну что вы столпились с постными лицами? Слухи о моей смерти сильно преувеличены.
Или:
− Я еще Израиль на параолимпийских играх буду представлять. Пусть только попробуют меня к соревнованиям не допустить.
Каждый день она вкалывала так, как ни один спортсмен не вкалывает. Ее целью было научиться ходить, хотя бы в пределах квартиры, и крутить колеса коляски, чтобы передвигаться на длинные расстояния. Каждый сантиметр самостоятельности давался ей градом слез и губами, закушенными от боли, посиневшими от недостатка воздуха. Но это видели только самые близкие. Ури и те, кто привозил ей детей. Так и получилось, что я в очередной раз вляпался в ситуацию с далеко идущими последствиями.
Три года назад, 29 апреля, погибла Офира. Я отмечал ее йорцайт по европейскому календарю, во-первых, чтобы не лишаться радости от Дня Независимости, а во-вторых, чтобы не пересекаться на кладбище с Роненом. Они вернулись в Израиль и открыли бейт-хабад в Эйлате − нашли тоже место, люди туда отдыхать ездят, а молиться можно и в Хевроне. Малка продолжала общаться в социальных сетях с этой дурочкой Номи. Слава Богу, она уважала мои чувства и не приглашала ее к нам домой. Слышать через каждые два слова “йехи а-мелех”[297] никакого терпения не хватит. Итак, я уехал из дома еще затемно, чтобы успеть на кладбище в Иерусалим, а оттуда на объект в Кирьят Гат. В конце рабочего дня позвонила Малка и стала рассказывать, как возила наш цветник (Офиру и Яффи плюс Рахель) в детский салон красоты в Беер-Шеве, а потом навестить Хиллари. Я отключился от деталей и, дождавшись паузы, вставил:
− Малка, я что-то должен сделать?
− Мой телефон… Я поставила его заряжать в комнате у Хиллари и забыла.
Понятно. Мне действительно ближе и безопасней ехать за телефоном, чем ей. Но все-таки неудобно приходить к Хиллари вечером, там и так какое-то подобие проходного двора. Ладно, попрошу кого-нибудь из медсестер постучаться к Хиллари и забрать аппарат. Пока я освобожусь с объекта, будет уже поздний вечер.
Я шел по унылым коридорам реабилитационного центра и, как на грех, не встретил ни одной живой души. Все-таки это не больница, где столько же персонала по ночам, сколько днем. Придется позвонить Хиллари, сто раз извиниться, дать ей возможность одеться и потом заходить. Я набрал номер телефона на столике, никто не отвечал. Очень странно. Подождал пять минут, набрал еще раз. Опять никого. Какие могут быть процедуры в девять вечера? Может быть, она уже спит? Кляня себя за неорганизованность, я постучал в дверь палаты. Никто не отвечал. Я заглянул и увидел пустую тщательно застеленную кровать. Ни Хиллари, ни коляски. Мне это все уже перестало нравиться. Хиллари еще не может ездить далеко сама, она еле-еле до двери доезжает. Из розетки в углу торчало заряжающее устройство с малкиным телефоном. Я его припрятал и написал Хиллари записку, чтобы она не волновалась, что его сперли. Такое в реабилитационном центре не часто, но случалось. Вот только куда они дели саму Хиллари?
В коридоре было тихо, только из-за пары дверей доносилось неразборчивое телевизионное бормотание. Нет, теперь, пока я не найду Хиллари, я точно отсюда не уйду. Даже спать уже не хотелось. В конце коридора на каждом этаже этого заведения находилось что-то вроде мини-кухни со столиками, холодильником, микроволновой печкой и раковиной. Вроде армейских кухонь на отдаленных базах, но поменьше и почище. Это помещение отделялось от основного коридора коридором поменьше, и большие окна выходили прямо на панораму ночной Беер-Шевы. Еще подходя, я услышал голоса. Один принадлежал Хиллари, а другой женщине постарше. Тут бы мне и уйти, но победило совершенно подростковое любопытство, за которое я в соответствующем возрасте огребал по самое не могу. Кто это наносит Хиллари такие поздние визиты?
Я остался стоять в маленьком коридоре. Про то, что подслушивать нехорошо, Офира меня научить не успела, а сейчас уже поздно, скоро тридцать стукнет. И вообще, в отличие от этого энтузиаста из трактата Берахот, я не полез ни под чью кровать[298], а нахожусь в общественном месте, где имею полное право находиться.
Сначала я обрадовался, подумав, что к Хиллари, наконец, приехала из Америки мать или что у родителей Ури проснулись хоть какие-то родственные чувства. Нет. Для американки иврит говорившей был слишком беглым и выразительным, для уроженки страны – слишком правильным и формальным. Иврит явно не был у нее первым языком или даже, как у меня, вторым.
− Я его не оправдываю. Мне больно от того, во что он превратился. Я сама боюсь там показываться. Представь, каково мне. Представь, что это не какой-то абстрактный араб, а твой сын или внук, которого ты помнишь маленьким и беспомощным.
− Ничего себе абстрактный! – это Хиллари. – Мы, между прочим, живем все на одном пятачке. Мне очень страшно иметь таких соседей. Очень страшно. Вы думаете, мне нравится жить в осажденной крепости? А какая альтернатива? Не жить вообще?
− Не кипятись. Ваши меры безопасности привели к тому, что здесь выросло поколение молодежи, с детства униженной и потому отчаявшейся. Я не призываю тебя расплакаться от вины и сочувствия, я просто хочу, чтобы хоть кто-нибудь среди евреев Хеврона понимал связь между причиной и следствием и не удивлялся. Мой внук думает, что пролив достаточно еврейской крови, он восстановит свое поруганное человеческое достоинство. Это не работает, но он этого уже не поймет. За временным неимением еврейской крови, сойдет любая другая. Будь это даже кровь собственной младшей сестры.
Это София Аднани из Назарета. Мы все знали ее имя из газет. Она обратилась к правительству Израиля с открытым письмом с просьбой предоставить Рание убежище по религиозным мотивам. Евреи ничего не могут решить сразу, а вот реакция первой в Кнесете женщины-депутата от арабского списка удивила своей низостью не только нас. В промежутках между заявлениями, что шесть миллионов евреев сидят у нее на шее и что палестинцы платят за преступления немцев, эта народная избранница нашла время публично обвинить Софию в предательстве, а Ранию – в развратном поведении[299].
− Мы все равно останемся в Хевроне. В том, что Рания не может остаться, есть доля нашей вины, но она меньше всех. Как лично я могу вам помочь?
Послышалось журчание воды, наливаемой в чашку.
− Ты можешь помочь в первую очередь своему мужу. Много ли надо хирургу на амбулансе, чтобы сорваться? Второго такого инцидента Хеврон просто не может себе позволить. Четыре тысячи лет назад здесь выступил человек с уникальным посланием – каждая человеческая жизнь драгоценна. Господь не будет бесконечно терпеть ненависть и кровопролитие вокруг его могилы.