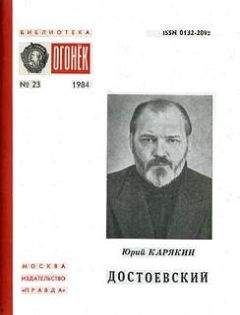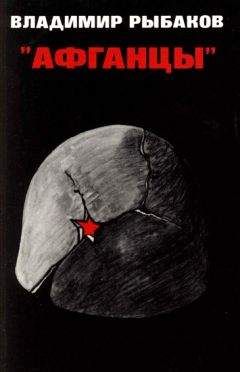Виктор Бычков - Варькино поле
Надо было ещё после молитвы поковыряться, полазить на пожарище: может, чего и осталось? Посуда, ещё чего? Сразу не решилась: зола горячая, да и угли ещё не остыли, не погасли. Главное, пусть пройдёт немножко времени, чтобы душа поостыла, пообвыкла чтоб… Вот и молилась бабушка Евдокия, отбивала поклоны Господу Богу, просила помочь выстоять в лихолетье, сохранить жизни родным и близким людям и самой набраться сил душевных и телесных.
Старуха наклонилась в очередном поклоне, когда услышала сквозь открытую дверь в погребе выстрелы. Да не один. И топот копыт услышала. Может, сынок убегает? Вырвался от недобрых людей да к дому поспешает, укрыться чтоб?
Евдокия выбралась на поверхность, скоренько побежала вокруг озерца: там дорога в Дубовку, оттуда выстрелы и топот.
Она успела увидеть, как конь взвился на дыбы, обрушился на младшего конюха из барской конюшни Ивана Кузьмина. Знала хорошо старуха этого человека, семью его хорошо знала. Завистливые людишки и лодыри. Услышала предсмертное ржание коня и крик мужчины предсмертный услышала тоже. Жу-у-утко…
Чуть в стороне заметила лежащего на земле ещё одного человека, стоящую над ним женщину.
Побежала туда… Узнала… Ужаснулась видом молодой барыни. Спросила лишь:
– Когда?
Впрочем, догадалась и без ответа, что недавно: свежие раны.
– Кто?
Та снова не ответила, только кивнула головой в сторону коня и конюха.
– Господь покарал нечестивца.
Старуха сейчас поняла, что произошло в Дубовке, и перестала удивляться появлению толпы мужиков утром у них на хуторе. Она уже вообще перестала удивляться. Значит, без Храмовых смуты не делаются. Обязательно они должны пройти, коснуться, пронзить своим жалом тела и души их.
И снова голосить, убиваться не стала. Взяла за плечи девчонку, помогла подняться, отвела к озерцу, к молодым дубкам, где сохранилась когда-то сделанная специально для отдыха молодой барыне Варе беседка. Петя беседку ту рушить не стал, а починил, подправил, крышу перекрыл, траву-мураву вокруг выкосил, камыш повыдернул – вид на озеро сделал. Мостки смастерил, чтобы в воду по настилу… Иногда, в редкие минуты отдыха, или на какой святой праздник они всей семьёй приходили сюда, просто сидели, говорили, строили планы. Радовались, что и Храмовы могут себе позволить любоваться красотой русской природы как баре Аверины. Выстрадали такое право, заработали. А то сами баловались и гостей чаем потчевали в летние вечера.
Но сегодня не до любования, не до чаёв: надо действовать.
Бабушка усадила барыню, прижала к себе, тихонько гладила спину, шептала:
– Не придумали ещё люди снадобий, которые излечивают души людские от человеческой жестокости. А вот Господь Бог придумал лекарство. Время это, девонька, время! Оно лечит. Вот и ты поплачь, поплачь. Облегчи душеньку свою. А телом твоим займусь я. С Божьей помощью. Даст Бог, затянутся раны твои, девонька, затянутся. И на теле, и в душе не так жечь станут. Душа не очерствеет, нет, она чуть-чуть по-другому смотреть на жизнь будет. Дай только время.
– Маму, Геннадия Ивановича, старого учителя – Фёдора Ивановича – казнили, повесили на дубе, – промолвила Варя будничным голосом, как об обыденном. – Алексей сказал, что и ваших тоже. Он видел, был там, на школьном дворе. Пощадили Марту Орестовну и внучку учителя – Наденьку. А Серёжку… саблей… голову… в омут…
И опять Евдокия не заголосила, лишь сильнее прижала к себе Варю, да движения рук её стали резче, с подёргиванием. И дыхание стало сбиваться. Вроде воздух на поле чист и свеж, а вот, поди ж ты… не хватает. Выходит, не минула смута и её семью, прокатилась страшным, кровавым катком. Ну, что ж… она – женщина сильная. Вот, у неё уже появилась молодая барыня: есть о ком заботиться. Появилась новая цель в жизни. Значит, стоит жить и дальше. Если бы не девчонка эта, то самой можно было бы и помирать. Хотя ей неведомо, пока она не знает, как распорядится собой неожиданная гостья в дальнейшем, как поведет себя взбунтовавший народ по отношение к ней и к девчонке. Но надеется на хорошее.
– Упокой, Господи, души невинные, чистые, – прошептала старуха, привычно перекрестилась, потом решительно отстранилась от девушки, встала.
– А меня… меня… – на этот раз Варвара не смогла удержаться, качнулась вслед к бабушке, разрыдалась на её плече.
– Что, что ещё сотворили над тобой?
– Он… он… когда я без памяти… – захлёбывалась слезами молодая барыня. – Я… я… чувствую…
– Ссильничал? – догадалась Евдокия.
– Д-д-да, – выдохнула из себя девушка.
– Вот же поганое племя! Глумиться над бесчувственным телом?
– Как жить теперь с этим, бабушка? – стонала на плече у старухи Варенька.
Однако женщина ничего не ответила, только лишь всё прижимала и прижимала к себе девчонку, неустанно гладила ладошкой спину.
– Вы меня презираете?
– Тю-у-у! И как только язык у тебя повернулся? Разве ж я не понимаю…
– Что мне делать, бабушка?
– Надо жить! Вот что я тебе скажу, милая моя: жи-и-ить! Господь наказал насильника, лучше уже не накажешь. А ты живи! Такая доля бабья, куда уж нам от неё.
Старуха дождалась, пока барыня успокоится.
– Ты, Варенька, побудь без меня, я сбегаю в Дубовку. Проследить надо, чтобы по-христиански всё, по-людски похоронить. Да и людям в глаза посмотреть хочу: осталось ли там у них хоть что-то человеческое, христианское, православное? Вот только тебе немножко помогу и побегу, дева.
Не стала откладывать в долгий ящик, на пепелище нашла уцелевших два глиняных горшка, ополоснула в озере, развела небольшой костерок, сбегала к родничку в дубняке, поставила греть воду. Сама тут же направилась за листьями мать-и-мачехи. Нашла. Попутно по дороге сорвала шиповника, зверобоя и чистотела.
– Ягоды-то на кустах ещё малюсенькие – завязь, так и листья сгодятся, – вроде как оправдывалась перед девушкой старушка.
Бросила мать-и-мачеху, шиповник в кипящую воду в одном горшке, в другой – зверобой и чистотел, оторвала из нижней юбки подол.
– Тряпка нужна, а её-то и нет, – снова пояснила Варе свои действия. – Сгорело всё.
Когда отвар остыл, настоялся немного, бабушка сначала одним снадобьем промыла раны, очистила их, потом в другом отваре смочила полоску ткани, умело наложила на обожжённое лицо, завязала.
– Вот, моя хорошая, и полегчает тебе, как пить дать – полегчает. И заживать хорошо станет. Природа, она… она всё-о-о лечит, если только с умом к ней да с молитвою святою. Вот как оно. Уж поверь мне, а я-то знаю. И земля родная нас с тобой спасёт, даст кров, приютит, когда все от нас отвернулись. Укроет от ненастья и согреет в лютый холод, накормит и напоит. Это же твоё поле, поле, названное твоим именем. Доверься ему, дочка. Ведь недаром назвали его так: сам Господь руководил твоими родителями в тот момент. И привыкай, привыкай смотреть на мир одним глазом. Чего уж… Земля наша, поле Варькино поводырём тебе будут, не дадут сбиться с пути, потеряться в этой жизни. Но и ты крепись, дева. Иные слепыми родятся или жизнь ослепит, и ничего – живут. А то, что щека обожжена, изуродована? Мои бы сынок со снохой может и без рук, без ног согласились бы жить, только никто их об этом не спрашивал: повесили страдальцев. Да и твои – мамка с братьями… тоже. Им бы ещё жить да жить. Особливо младшенькому… И-и-э-эх! Что деется, что деется.
Отвела Варвару к озеру, в беседку. По дороге нарвала небольшую охапку зелёной травы.
– Это – как подушка, под голову, чтобы мягче было, чтобы здоровее, приятно чтоб… вот как.
Девушка благодарно посмотрела на бабушку, кивнула, соглашаясь.
– Ты прилягни, дочка, прилягни, – шептала Евдокия, укладывая гостью на скамейку. – Сон, он это… сон, он лечит, душа моя, лечит, да ещё как. Выбрось из головы всё и спи. Травка молодая, ароматная под головкой, воздух наш целебный окутают тебя, придадут животворящих запахов. А я скоренько обернусь, ты только спи, не волнуйся. Звери сюда не ходят, а злые люди не придут: брать-то уж нечего.
Варя так и оставалась в беседке. После ухода старушки уснула прямо на скамейке и проспала, на удивление, долго. Проснулась, когда начало смеркаться. Солнце село где-то за лесом, его последние лучи ещё выглядывали из-за верхушек деревьев, но уже не освещали пожарище, озеро, поле. Однако было светло, хотя и начало смеркаться.
Боль немного поутихла, притупилась, лишь стягивало обожженную рану на щеке, она зудела, да и в пустой глазнице покалывало несметным количеством меленьких колючек. Но кололо не больно, а лишь чуть-чуть касаясь обнаженного тела.
Повязка высохла, прилипла в некоторых местах к ранам, и девушка не решалась снимать до прихода Евдокии. Вдруг станет ещё больнее или хуже?
Варя подошла к кромке воды, увидела себя в отражении. Разглядывать до подробностей не стала, да и не видны были все тонкости, все изъяны обезображенного лица в предвечерние сумерки. Так, в общих чертах узнала себя уродиной, перебинтованной куском бабушкиной юбки. Но не испугалась, потому, как увидела то, чего ожидала. Лишь зло сжала зубы, заскрежетала ими, и тяжёлый вздох в очередной раз потряс девушку.