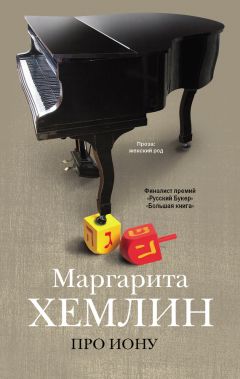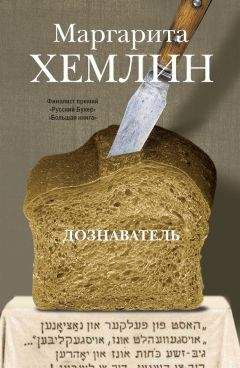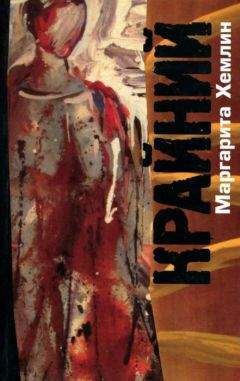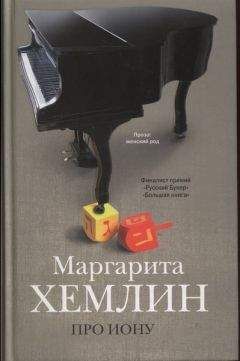Маргарита Хемлин - Искальщик
Получается, меня и водой почти что поливали, а я спал.
И что интересно, ремень, которым мне ноги застегнули, был именно Переца. А Перецу ж с его пузом без ремня – никак.
Неожиданная радость затмила мои размышления на полном ходу. Из-под буфета спокойно торчал кусочек папиросной пачки. Как она туда забежала – непонятно. Различил ее не глазами, не душой – кишками, которые свело в узел, еще хуже мокрого, полотняного.
Подполз тихонько, даже приманивал коробочку, обманно успокаивал, чтоб с места не чкурнула. Схватил, раскрыл – кольцо на месте. Блестит и блестит. Достал, поцеловал. Не так, как вроде обслюнявил, как хлопец девку, я ж видел, не маленький, а как дед целовал мезузу. Мама не так. Мама дотронется, потом концы пальцев поцелует. А дед обязательно лично мезузу. На цыпочки установится и поцелует. Насухо. Без следов.
Сел на кровать, где еще теплело от ватного одеяла, которое грело Шкловского. Сел с мыслью заплакать. Но приказал себе: отставить! И мирно уснул с кольцом в кулаке.
Дом я обыскал весь до крошки.
Ничего хорошего для меня. Для базара – полно, а мне для души – ничего.
Стал жить хозяином. Про Переца старался не размышлять. В школу не ходил. Придумал особенное: сидеть в погребе – в тайной тишине, в земле. Слушал, вслушивался, аж уши разбухали. Потом – завою, закричу одну какую-нибудь букву алфавита. Или зажгу свечку возле ног и провожу репетицию различных бесед – с Раклом, с Рувимом. Но особенно удачно – с Розалией. Да, с Розалией сильно хорошо получалось.
Один раз целый день без перерыва концерт давал, пока в обморок не упал. Я ж крышку погреба закрывал, чтоб полная тишина образовывалась. А воздуха мало. Думаю, потому и упал без чувства.
Причем как-то захотел прочесть любимое стихотворение и еще несколько, но не вспомнил начало. Головой об земляную стенку бился – а совсем ничего не вспомнил.
На четвертый день явилась Дора.
Стукала в калитку, звала Переца и по имени, и по отчеству, и по фамилии, и по-всякому.
Я не открыл. Выглянул разок из-за занавески. Дора ушла, потом, видно, с полдороги вернулась, опять стукала, но без слов. Свет же в доме мигал как попало – и от каганца, и от печки. Я специально заслонку открывал, именно чтоб любоваться огнем. После погреба мне света казалось очень мало. Я каганцы по всему дому расставлял и жег.
Правильно можно подумать, что другой на моем месте распахнул бы перед Дорой дверь и кинулся с расспросами. Но не такой я. Я решил выжидать. Жить в свое удовольствие. На базаре потихоньку, когда дома еда закончится, продавать Перецово шмотье, ложки-вилки, тому подобное. Между прочим, подобного в доме оказалось полно. И ждать я мог и мог.
Честно сказать, видеть никого не хотелось. Не с тоской, а с радостью не хотелось. В первый раз за всю свою жизнь я был совсем один. Мог думать о себе как таковом. Что именно размышлять, я не задумывался, но душа просила внутреннего полета. И я отдавался новому чувству самозабвенно.
В силу того, что энергия била через мои края, пища закончилась быстро. То есть не вся пища, а как раз вкусная. Картошки, буряка, морковки, лука в погребе навалом. Но вкусного – уже ничего.
Взял парусиновый пиджак, матерчатые туфли и соломенную шляпу Переца, в ближайшее воскресенье пошел на базар, чтоб продать.
Сам оделся конспиративно – толстый шарф Переца, бурки его же, короткий кожух – Перец любил отдыхать: на диванчик постелет и разляжется, спину лечит. Шапку его пирожком напялил.
Про бурки. У Переца – не одна пара обуви. А как же! И ботинки с калошами, и тому подобное. Но все наперечет я увидел на месте. Значит, он босой исчез. Мое спокойствие подсказало мне, что не надо двигаться дальше, а надо просто заметить этот удивительный факт.
Продавал недорого, чтоб не маячить на виду до вечера. Все разом схватила баба-мешочница.
Накупил еды. Шел с базара задами, удачно проскочил, ни одного знакомого.
Разложил вкусности на столе. Сахара нету. Увлекся колбасой, копченым салом, хлебом. Сахар забыл!
Бросился назад. И гнало меня черт знает как, без конспирации – сахара хоть за смерть, а достань сию же минуту!
Если б я был в своих скаутских ботинках – я б не шлепнулся на тоненьком льду. Бурки Перецовы подвели. Великоваты, подметка ненадежная в торможении. Шлепнулся я с всего маху. Лежу, смотрю в небо. А подняться не могу.
Кричу:
– Помогите, люди добрые!
Вижу чьи-то ноги в дырявых валенках. Грязная рука меня хватает за шкирку и тянет не наверх, как надо было б, а как-то вбок, вроде перевернуть хочет и вытряхнуть меня из меня же. Различаю, что хлопец, не взрослый. Мелькнула мысль: уронит, еще ж хуже будет.
Отталкиваю его, отталкиваю…
А он вцепился. Шипит:
– Поворачивайся, гад, мне с тебя кожух надо снять. Или сам снимай, а то ногой жахну в пузо, буржуй проклятущий…
То был голос Марика.
Я мог бы сейчас сказать, что обрадовался. Но нет. Не скажу. Перепугался десятым чувством или каким по счету, которым обычно пугаются еще не знамо чего. В голове пронеслось: хоть бы не узнал.
Я сверх человеческой способности быстро перевернулся набок, стянул один рукав, потом из-под себя вытянул другой, причем вывернул руку до боли, но скрепился и, ничком, отшвырнул кожух трохи в сторонку, насколько смог.
Надеялся – схватит Марик добычу и бандитски убежит.
Так почти и получилось. Марик побежал с кожухом в обнимку.
Но сердце мое не сдержалось.
Из сердца предательски выдохнулось:
– Марик! Я ж Лазарь! Вертайся! Дай мне только встать! Увидишь – я правда Лазарь!
Как-то ж я поднялся, спина трещала, посмотрел – пустая торба валялась неподалеку, я ее подхватил ногой, вроде хавбек какой-нибудь, перенял рукой.
Опять закричал на все горло:
– Марик! Не беги! Я ж тебе ничего не сделаю! У меня в хате жратвы полно! И колбаса и все! – Марик обернулся на лету. Я ему помахал торбой в знак привета. – Пошли до меня! Говорю ж, я с добром к тебе! Я ж Лазарь! Помоги дошкандыбать, тут недалеко!
Марик влезал в кожух на ходу. Полы мотылялись возле самой земли. Получился не человек, а пугало.
Приближался с опаской. Но плечо подставил. Ему так удобней – почти на голову ниже меня ростом. Я еще специально в ту минуту заметил. Когда-то ж мы с ним ровно одинаковые были.
Я говорил что-то не фактическое, а успокоительное, чтоб поддержать отношения. Марик молчал. Кряхтел и подвывал. Я решил, что для пробуждения моей жалости. И еще сильней опирался на его плечо. Дружба есть дружба. Я его домой веду, в тепло. Так и он пускай поднатужится.
Когда пришли на Святомиколаевскую, первым делом постаскивал на стол все лучшее. И наливку поставил в графинчике, и рюмочки.
Марик смотрел кругом себя невидящими глазами, таращился. Казалось, зрение утратилось от удивления.
Я еще только раскладывал вилки-ложки, а он уже жрал, даже кожух не снял. Рвал кусками колбасу, паляницу мучил грязными своими руками – корочку, корочку, главное, обгрызал…
Говорю:
– Вот, Марик, я так и живу каждый день.
Он тряс головой, вроде жеребенок. Жрал и головой тряс, жрал и тряс. И жрал не только ртом, а всей своей головой.
Я к еде показательно не притрагивался. Только наливочку тянул. Рюмку за рюмкой. Не сообразил, что для наливочки сначала надо немножко покушать. Если б я был привычный, а я ж был непривычный. И сильно хотелось Марику показать форс.
Хмель вдарил мне под дых. Я сказал:
– Ты, Марик, какой-то маленький остался. Не вырос.
Марик на минутку остановился, кивнул по-человечески, не по-конскому, растолкал кое-как языком куски по рту, по щекам и говорит:
– Ага. Маленькому ж больше подают. И спрятаться маленькому скорей. Мне ж лучше – маленькому. Я расти не буду. Мне и не надо.
Я пристально посмотрел на Марика, на его руки, на его лицо, на всю его голову с кудлатыми волосами. Ему как было при нашем расставании, ну, может, трошки больше.
Подвинул рюмку:
– Выпей! Сладкая! И кожух снимай. А то замажешь от жадности своей…
Марик выпил одну, другую. Расстегнул кожух. Застегнул.
– Холодно тут. Как на улице.
Только тогда я и сам почувствовал – холодрыга. Печку ж не топил с ночи.
Пока я возился с дровами, ставил самовар, Марик кунял за столом. Как-то свернулся на стуле – ни ног, ни рук, ни головы не видно отдельно – и дрых с прихрапом в кожушиной шкуре. Собака и собака. Ой.
Я внутри себя сказал спасибо Богу или чему-то там.
На пьяном языке у меня крутилось предложение хорошей жизни для Марика. Чтоб оставался при мне.
Но хмель трошки заветрился, и я пришел в ужас: а я кто есть такой? Вроде Марика. Не сегодня завтра припхаются и выгонят меня из дома. Кто припхается? Кто?
Дальше мысли шли быстро и четко.
Не для того бесчувственного Переца утянули, чтоб он потом являлся с боевитым видом туда, откуда его забрали. Не для того меня опаивали, как ненужного свидетеля и возможного вредителя в деле покражи Шкловского с его места почти что умирания от тяжелого переживания. Это – одно. Потом. Другое – если Дора правду варнякала и знает настоящего Марика на лицо, то настоящий Марик мне как раз в самую точку нужен. И уже не он при мне, а я при нем. Или, допустим, Переца пустили в расход. У меня ни бумажек, ни метрики, одно мое честное слово, что я сын. А Дора Марика перед любым революционным судом заявит как настоящего и подлинного сына Шкловского. Я уже немножко жиром оброс, отмылся. Буржуйско-нэпманского вида стал. А Марик – вот он, революционный продукт. Так и все равно… Получается и так, и сяк – ну, уплотнят нас, конечно, но угол же оставят для жизни.