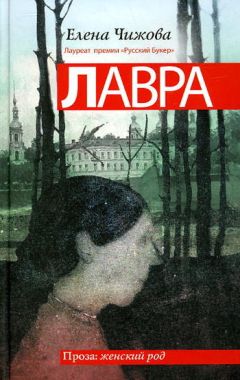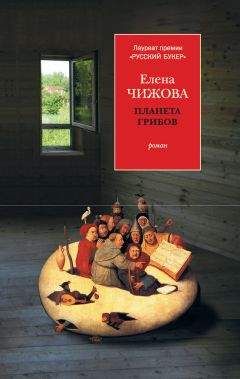Елена Чижова - Неприкаянный дом (сборник)
Митя обличал церковников в том, что они, не умея встать выше текущего внутрицерковного раскола, свидетельствовали друг на друга – под хищные оскалы большевиков. Он говорил правду, ничего, кроме правды, но что-то мешало мне откликнуться. «Антонин отложился от Красницкого», – я сказала тихо, как мне тогда казалось, ради более важной правды. «Неужели? – Митя вскинулся. – Ах да, как же, помню, говорит, нет Христа между нами, так? Вот именно это и есть обрядоверие. Над овечкой поп кадил, умерла овечка », – он запел, кривляясь.
«Это теперь, когда тебе все ясно. Ясно, к чему пришло… Да и то… Но тогда… Разойтись не так уж и просто. Так же, как и соединиться», – я сказала, глядя мимо вспухшего ободка. «Соединение, – он поймал мой криво брошенный взгляд, как ловят стрелу, пущенную мимо, – это, вообще, вопрос целесообразности. В политике (а в России все, как известно, политика) надо уметь выбирать попутчиков. В конце концов, именно это умение и приводит, читай Владимира Ульянова (Ленина), к полной и окончательной победе. Что касается меня, если б захотел, я бы сделал это. Но я хочу одного: уехать. Все, что здесь, я ненавижу!» – пойманная стрела дрожала в его руке. «И меня?» – я спросила, слушая ноющее оперение. «Если защищаешь их, значит, и тебя. И тебя», – он повторил больным эхом.
Теперь он заговорил мрачно, сбивчиво и смутно, но это смутное обличало меня. По-Митиному выходило, что именно я воплощаю черты, которые он, прирожденный западник, ненавидит в русском народе: во мне нет стойкого героизма, но есть идея жертвы, меня не мучают чувства социальной неправды, но влекут странные мистические иллюзии, за которыми я не вижу леса, у меня нет навыков систематического мышления, но есть мышление катастрофическое, он сказал, свойственное любой тоталитарной системе. «Ты вбила себе в голову, что можно обрести внутреннюю свободу – в этой полицейской стране. И когда я думаю об этом, я понимаю: мы – чужие. Если бы не это…» – взяв мою пустую руку, он приблизил к глазам. Рука вывернулась и раскрылась. Он вчитывался в ладонь цыганским глазом. Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья , – прочитал и выпустил, так и не разобрав линий.
Беловатый оставленный след наливался красным, словно Митя, играя острыми словами, изрезал. Пустой ободок был уязвим, как улитка, с которой сорвали раковину. С отвращением я думала о собственной трусости: если б знать заранее, я призналась бы, что стою за «Живую церковь». Митины обличающие слова саднили.
Я не могла припомнить источник, но была уверена: слова, направленные против меня, взяты из бахромчатых книг. Эти книги я сама вкладывала ему в руки. С тоской я подумала о временах, когда он, забывая обо мне, листал разрезанные страницы. В те времена я убеждала себя в том, что отчим – неподходящее слово. Теперь он настраивал детей против меня.
«Это странно, но чем дальше, тем сильнее я чувствую себя не то чтобы лишним – другим. Лишние, – он усмехнулся, – это раньше, в прошлом веке: Онегин, Печорин… Темы сочинений, вечные детские глупости – на советский аттестат зрелости. Слава богу, созрел». Я молчала. «В конце концов, мой отъезд – благо, и в первую очередь даже не для меня. Если этот народ желает вылечиться, от таких, как я, ему до́лжно избавляться». – «Если все мы, – я думала о том, что Онегин и Печорин остались в моей прежней, неопороченной жизни, – уедем, что же останется здесь?..» – «Именно то, к чему они все, – широко и размашисто он обвел рукой, – собственно, и стремятся: единение и единообразие. Ради этой благостыни принесены такие неимоверные жертвы, что, откажись я уехать, это само по себе грех». – «Пусть лучше уедут… они», – я боялась заплакать. «Как ты себе представляешь? – Митя поднял бровь. – Массовый исход, наподобие саранчи? Когда-нибудь, возможно, и случится. Обглодают здесь – поворотят туда: рыдать на реках вавилонских. Надеюсь не дожить. Кстати, на твоем месте я не стал бы особенно обольщаться. Сама не заметишь, как превратишься в прожорливое насекомое: крепкие челюсти, выпученные глаза, ты и сейчас любишь выпучивать».
Мягкими шагами подходила тоска. Я обернулась к окну, за створками которого притаилось великое множество глядящих, но не заступившихся. «И за меня – некому», – я сказала тихо, самым тихим голосом. Время подходило к концу.
Они уже стучали. Не тихо – костяшками пальцев, а сильно и грубо – пудовым кулаком. Забыв обо мне, Митя двинулся к двери, ступая осторожно. Взявшись за косяк, он прильнул ухом. Из-за двери неслись голоса. Женский, визгливый, главенствовал: давно уж примечаю… Дверь-то вроде и заколочена, а по вечерам кто-то шастает, да и в окне свет… Заглянуть, да окно больно высокое, и на цыпочках не глянешь, наделают пожара, все взлетим в воздух, потом ищи-свищи, а кто отвечать?.. Другой, мужской, бубнил гулко: ну чего ты?.. чего ты?.. нет никого, – но визгливый, переходя на свистящий шепот, возражал: чую – кто-то есть.
За дверью стихло. Митя обернулся: «Дворничиха. Черт! Выследила, когда входили…» – «Плохо, но не смертельно», – я вспомнила его любимого Оруэлла. «Конечно, нет, – мне показалось, он стыдится своего явного испуга. – Неудобно перед Серегой, дал ключ, просил соблюдать, а тут, видишь… – Митя замер. – А представь, если бы у них ключи – заходят, а здесь… – глазами он указал на сложенную рукопись. – И ничего не докажешь – отпечатки пальцев». – «Ага, а у них с собой передвижная лаборатория, здесь бы и сняли». – «У них везде передвижная , – он отозвался высокомерно. – Им и двигаться не надо, все движутся сами, но всегда в их сторону…» – распахнув сумку, он заталкивал объемистый пакет. «Не советую, – я сказала медленно, словно обдумывая. – Выносить лучше мне. Во-первых, я – женщина, на меня вряд ли подумают, а во-вторых, уж если… тема церковная, скажу – жена священника, книжка – по специальности», – я вспомнила таможенные ухищрения. Митя обернулся тревожно: «А тебе… не страшно?» Усмехаясь, я протянула пустую руку: «Мне все равно».
«Судя по всему, здесь нам больше не видеться, – он сказал тихо и отрешенно, словно принимал как должное чужое решение. «Здесь, это где: на свободе, в этой стране, на этом свете?» – я не могла остановиться. Он вслушивался, не понимая: «Господи, да здесь, в мастерской», – свободной рукой он обвел стены. Солнце, уходящее за Неву, залило их последним светом. Темная картина, висевшая в дальнем углу, вспыхнула. В первый раз я обратила на нее внимание: на самом деле это была не картина . На жестком листе картона топорщился выеденный остов омара – красноватый и огромный. «Ты замечал раньше?» – «Конечно, – Митя ответил недоуменно, – сразу, а…»
«Если за ней телекран , – я повторила слово его любимого Оруэлла – и за нами наблюдают… – В этот миг я готова была пожертвовать всем, чтобы выдуманная история, которую он из года в год разыгрывал на своих подмостках и которой приносил меня в жертву, наконец воплотилась, – сейчас она должна упасть». Мне действительно этого хотелось: сделать так, чтобы за нами пришли .
Я смотрела пристально, не моргая, и под застывшим и собранным взглядом красный панцирь, дрожавший в воздухе, издал короткий щелчок. Он был похож на отзвук дальней петарды, и сразу же – медленно и беззвучно, как в немом кино, – жесткий картонный лист соскользнул со стены и повалился вниз. Пустой остов, похожий на рыцарские латы, изъеденные красноватой ржавчиной, ударился об пол и разлетелся на мелкие осколки. Митин взгляд уперся в пустой квадрат. Он смотрел пристально и доверчиво, словно грязная гладь стены действительно должна была вспыхнуть – телекраном .
«Мы – покойники», – я шла по тексту , наслаждаясь. Митя обернулся недоуменно: то, что произошло, не охватывалось его сознанием. Присев, я шарила по полу. Остов клешни попался сразу. Я подняла и восставила вверх, как перпендикуляр. «Обрядоверие? Вот – наглядное пособие. Двоеперстие, причина первого церковного раскола, так считают большевики, атеисты и ты – атеист и большевик. Ты – плоть от их плоти. Для тебя все ясно заранее: кто не с нами, тот против нас. Врешь ты все про объединение! Тебе ненавистно любое единство. Все живущие на свете для тебя – враги».
Страдая от его жестоких и несправедливых слов, я говорила о том, что это он не знает ни жертвы, ни милости, не разделяет ничьих страданий, потому что у него нет воображения, и все его систематическое мышление направлено только на то, чтобы в тысячный раз перемалывать одни и те же вопросы, которые не имеют окончательного решения, но самому-то ему представляются решенными – потому что такие, как он, отвергают любые другие взгляды.
«Как ты это сделала?» – не слушая моих слов, он всматривался в пустой квадрат. «Подпилила заранее, – я сказала, стиснув зубы. – Не бойся, чуда здесь нет. Да и откуда взяться среди нас – покойников? Нас самих впору воскрешать. Представь, воскресение нового Лазаря, выход из пещеры. Все ждут, немая сцена, и тут являемся мы – все в белом, только не в пеленах, как тот , а в этих захватанных страницах, испещренных черными буквами. Ты думаешь, рукописи спасают от смерти?.. Не-ет, – я не могла остановиться, – чудо – это то, что свершили большевики: создали нас по своему образу и подобию». Я замолчала. Больше мне было не о чем.