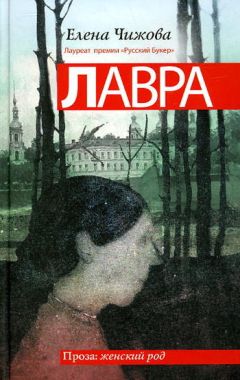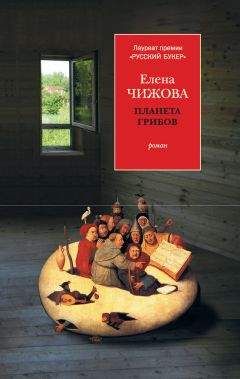Елена Чижова - Неприкаянный дом (сборник)
Едва обращая внимание на пишущих, словно те, взявшие на себя труд, были обыкновенными секретарями-келейниками, участники событий отвечали друг другу через голову смерти, уже недостижимые для ее загребущих рук. Я подумала, так бывает в театре, когда автор, сделавший свое дело, остается за кулисами – умирает, чтобы возродиться в актерах. Вслушиваясь в голоса, звучавшие со сцены, я все больше увлекалась поворотами сюжета, но в то же время, не в силах принять чью бы то ни было сторону, проникалась странным, до поры преждевременным и недоказуемым убеждением, что эта история, описанная обыденными словами, решалась в ином мире, где главенствует Рок.
Ни раньше, ни позже – даже читая страшные свидетельства трагедии уничтоженных поколений, я не переживала испепеляющую близость Рока с такой силой, с какой мне довелось пережить ее тогда, когда, склоняясь над захватанными страницами, я чувствовала за плечом присутствие силы, которую греки, исполненные ужаса и почтения, называли неизбежностью – Ананке. Однако в отличие от греческой здесь главенствовала другая неизбежность. Она ложилась иным, невиданным контуром, линия которого, впрочем, нигде не вычерченная явственно, проступала красным поверх написанных строк. Эта неизбежность, которую я назвала нашей , не заслуживала почтения: чем дальше, тем яснее я узнавала ее низкие черты.
Шаг за шагом я проникалась стойким убеждением: несколько лет церковной смуты, границы которой определялись, с одной стороны, Поместным собором 1917–1918 годов, а с другой – смертью патриарха Тихона, не сводятся к логической последовательности событий, пусть противоречивых и трагических, но ограниченных временем. В отличие от болезни владыки, свидетельствующей о прошлом и настоящем церкви больше, чем о ее будущем, эти события действовали как раз наоборот. Они говорили о будущем, поскольку прошлое, в котором они разворачивались, не оправдало ничьих надежд. Я видела их не распутанным, но грубо разрубленным узлом, в который – накануне революции – сплелись все главные течения русской церковной и культурно-исторической мысли. Эти течения – в согласии со своей давней фантазией я называла их холодными стержнями – несли в себе биографические и внешние черты главных действующих лиц.
Словно узнавая прежде виденное, я вглядывалась в псевдоиудейский нервный лик А.И. Введенского (ни имени, ни отчества – перед фамилией стояли одни инициалы), вдохновителя и светильника обновленческого раскола, частого гостя салона Мережковских. Исследователь причин неверия русской интеллигенции (из книги я узнала, что в 1911 году им была написана и опубликована в журнале «Странник» обширная статья, основанная на анализе тысяч заполненных и присланных в редакцию анкет), он определил две главные тенденции преодоления безверия – этого невыносимого его сердцу общественного состояния – апологетику (примирение религии и науки) и реформаторство (обновление церкви).
Рядом вставал его друг, кряжистый и широкоплечий А.И. Боярский, народник, человек практической сметки и убежденный сторонник ориентации церкви на рабочий класс. В посрамление верующих интеллигентов, опасавшихся рабочих и называвших их богохульниками, он стал священником при Ижорском заводе, вел популярные среди молодых рабочих тематические беседы, больше похожие на занятия народного университета.
Богатырская фигура православного иеромонаха Антонина Грановского (на два вершка превосходил по росту Петра Первого), пророка и ученого, русского Лютера, вставала в один ряд с теми, против кого двести лет свирепело официальное православие и рубило руки, сложенные двоеперстием. Этот митрополит, шокировавший и веселивший современников простонародной грубостью выражений, был единственным из всех, церковных и нецерковных, кто задолго до революции, выступая в комиссии по выработке законов о печати, высказался за полную, ничем не ограниченную свободу слова с совершенным уничтожением всякой цензуры. Страстный правдоискатель и недостижимо образованный человек, он поразил меня тем, что в работе над магистерской диссертацией «Книга пророка Варуха» использовал для воспроизведения утерянного еврейского оригинала тексты на греческом, арабском, коптском, эфиопском, армянском, грузинском и некоторых других древних языках, самые названия которых я узнавала впервые.
Против этих троих, не желая мириться с их взглядами на церковное будущее, выступал митрополит Вениамин, бесспорный в страдании и величии, любимец рабочих, совсем не похожий на гордого «князя церкви», однако взявший на себя перед лицом безбожной власти всю полноту ответственности за невыполнение распоряжения пролетарского государства об изъятии церковных ценностей, за что и был расстрелян. За ним стояла загадочная фигура патриарха Тихона, самую загадочность которой придавали тридцать восемь дней, проведенные в застенках НКВД: по выходе владыка – искренне и в согласии со своей совестью — покаялся перед советской властью, признав себя виновным за ее неприятие и публичное поношение.
Углубляясь в перипетии церковного раскола, по одну сторону которого стояла «Живая церковь», поддержавшая советскую власть и ею поддержанная и, как выяснилось позже, презираемая представителями этой власти, по другую – «тихоновщина», движение, названное по имени возглавляющего ее иерарха, я приходила в тяжкое уныние: мысленно представляя себе разговор с Митей и предвосхищая его безапелляционные предпочтения – «Все кто угодно, кроме выкормышей Советов», – опускала глаза. Не было моих сил назвать их – худшими. Многие из них, стоявших и по ту и по другую сторону, казались мне именно той земной солью, чья духовная и интеллектуальная деятельность влияет на будущее страны. Они принадлежали тончайшему слою людей, которым знаком вкус свободы.
Именно это вставало за страницами, терзало мою душу, не позволяя занять определенную и непримиримую позицию: программа «Живой церкви», или живцов , – кличка, пущенная «тихоновцами», – тех церковных деятелей, которые в отличие от своих противников не по принуждению сотрудничали с безбожной властью, – эта программа вызывала мое сочувствие. Она явилась развитием дореволюционных реформаторских идей (до 1917 года их разделяли многие миряне и иереи), и, читая, я задавалась вопросом: сколько нынешних служителей церкви, положа руку на сердце, нашли бы в себе мужество под ней подписаться? Снова и снова перечитывая пункт за пунктом, я не могла прийти в себя от растерянности: церковные сторонники безбожной коммунистической власти стояли за возвращение церковной жизни к первохристианскому свободному духу и обычаю. Я вспомнила свою крестильную рубаху. Отец Петр говорил: такие у первых христиан…
Муж возвратился через неделю: нынешняя поездка оказалась сравнительно короткой. Обыкновенно поездки по монастырям длились недели две. Он снова навез подарков. Выкладывая, шутил над их вечным однообразием: часы «Салют» в разноцветных пластмассовых коробочках (в нашем доме их уже накопилось штук пять-шесть), изделия народных промыслов, соответствующие монастырской местности. «Отцы-экономы закупают, как по разнарядке», – он выкладывал берестяные коробочки, расписные яйца на подставках, украинские деревянные ложки.
«А помнишь, в Киевской лавре, митрополит Владимир… Когда большевики его расстреливали, никто из монахов не вступился…» – я начала враждебно. «Помню, да, расстреляли, он, кажется, из обновленцев», – муж ответил рассеянно. Белые лаврские стены, которых я никогда не видела, поднялись в моих глазах.
Он выходил в облачении, как если бы они взяли его в алтаре, оборачивался на царские врата. За разверстыми створками притаилось великое множество глаз. Может быть, он думал о том, что сейчас его куда-нибудь повезут, но они вывели его во двор. Красное брызнуло на облачение, каплями пало на красное: пасхальный цвет. Замытые винные пятна остались на белых монастырских стенах, как на скатерти, которую уже никогда не отстирать…
«Священникам, членам делегации, дарят другое: кому камилавку, кому поручи. Например, отцу Глебу преподнесли новый подрясник», – муж говорил о своих подарках, которые я, по давнему обыкновению, выставляла на кухонной полке. «Музей подарков любимому вождю», – он смотрел усмехаясь.
Вечером за чаем муж принялся рассказывать о монастырском житье-бытье, в особенности его умиляла протяженность великопостных служб: «Служат честно, ничего не упуская, по пять-шесть часов, ты бы не выстояла. Мне они разрешили попеть в хоре». Радостная гордость, пробившаяся в голосе, отозвалась во мне: я думала, если бы победили обновленцы, никто не посмел бы его унижать. Муж рассказывал о наместниках, давая пространные и точные характеристики. Я слушала вполуха, думая о том, что обновленцы выступали за священническое второбрачие: именно отношение к браку решительным и роковым образом развело враждующих по сторонам. Неужели здесь главная причина раскола?.. Нет, я подумала, быть не может. Горькая, унизительная фраза: «Мне они разрешили…» – никак не уходила. «А кому же еще, при твоем-то голосе? Должны почитать за честь», – сказала и пожалела о сказанном: в его глазах метнулась боль. «Если бы обновленцы победили, тебе не пришлось бы страдать», – я произнесла тихо, почти про себя. Он молчал.