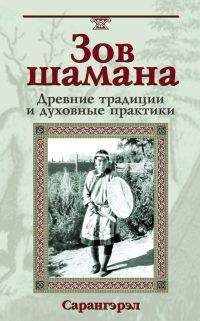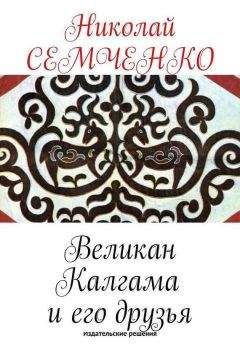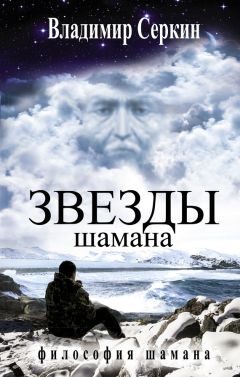Николай Семченко - Одиночество шамана
Он откуда-то твёрдо знал: рано или поздно Настя сама откроет вход, и, может, тогда ей тоже явятся не только светоносные драконы, и придётся победить свою лярву, и ощутить восторг и ужас бесконечного пространства, и понять самую простую из всех простых истин: ход времени не имеет никакого значения. Оно бесконечно движется по одному и тому же кругу, любой его момент связан со всеми остальными – нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего – есть только Любовь. Время и расстояние – всего лишь иллюзия: не двигаясь с места, можно оказаться в любом моменте времени и в любой точке пространства. Безумцы твердят об этом миру не одну тысячу лет, но здравомыслящие люди лишь смеются в ответ.
Андрей меньше всего хотел походить на последнего безумного шамана. Он выбрал вот эту жизнь, полную радостей и неожиданностей, такую простую, совсем не волшебную – обычную, в общем-то, жизнь. Человеческую. Но в нём осталась и та, другая жизнь, невидимая большинству. Подобно темной космической материи, она пронизывает любого из нас, но не всякий способен осознать и принять её. Для этого нужно так много и так мало – любить. И тогда просыпается душа…
– О чём ты думаешь сейчас? – Настя прижалась головой к плечу Андрея.
Он погладил её волосы, остановился и посмотрел смеющимися глазами прямо в её глаза:
– О жизни. О том, как она прекрасна!
А высоко над ними сияли вечные звёзды, и среди них плыла зыбкая тень лося с золотыми рогами.
Эпилог
Чикуэ Золонговна каждое утро ходит к одинокой старушке-соседке Кэку: никого у неё нет, ни детей, ни близких родственников; сколько ей лет, сама не знает, отвечает: «Много!»
Приболела она, ещё кое-как может выползти на крылечко своего хлипкого домишки, а чтоб сходить за хлебом или за водой к колодцу – и речи нет: слаба, любое движение даётся ей с трудом. Хорошо, Чикуэ Золонговна ещё в силе, приглядывает за вековухой, помогает ей по хозяйству.
Но недавно что-то с Кэку случилось. Выберется она на крылечко, пожмурится на утреннее солнышко, чихнёт да и примется теребить свой ветхий халат: намнёт-намнёт подол, ухватит скрюченными пальцами самый низ и оторвёт узкую полоску ткани. Эту ленточку старуха раздирает на ещё меньшие клочочки, выбирает из них цветные нити и подкидывает вверх: если дует ветер, они попадают в его струю и плывут подобно осенним паутинкам над соседскими дворами, цепляются за ветви деревьев и повисают на проводах.
Старушка, полузакрыв глаза, покачивается и что-то шепчет себе под нос. Сколько Чикуэ Золонговна ни прислушивалась, так ни слова и не поняла, разве что разобрала одно – «чока».
– Буйкин-атарди62, – решила Чикуэ Золонговна. Кэку, наверное, казалось: на этом свете осталось лишь её тело, ещё живое и не желающее умирать, а душа уже вылетела из него и превратилась в птенца-чока.
Так со старыми людьми иногда случается: будто бы ещё тут, в нашем мире, живут, но уже и в другом присутствуют. Их называют ойбонгойни, что означает: младенцем стать.
Чикуэ Золонговна жалела Кэку. Весёлая, вечно вся в хлопотах и заботах, приветливая и радушная, соседка была ей всё равно что родня: в горе не бросит, в беде поддержит, радость разделит, и никогда они не считались, кто для кого больше сделал. А теперь она буйкин-атарди…
Во дворе Кэку у самой калитки росла ива. Когда-то давным-давно соседка уронила тут прутик, а он возьми да укоренись, и в рост пошёл, да так быстро! Кэку не стала выдирать его из земли. Так и получилось: у кого-то черёмухи, амурская сирень да дикие яблоньки у калиток, как стражи, стоят, а у Кэку – обыкновенная фотоха63, правда, раскидистая, пушистая, и листья у неё красивые – мелкие, покрытые с изнанки серебристым пушком: подует ветер, качнет дерево, оно и заиграет-запереливается легким металлическим холодком. Под такой ивой хорошо в жаркий полдень сидеть: в тени прохладно, и оводы с мошкой не донимают – почему-то облетают стороной.
Наверное, фотоха была морсо64 Кэку. Правда, морсо это всегда невидимое дерево, появляющееся с рождением человека и падающее от дряхлости с его смертью. Оно растёт где-то рядом, переплетаясь ветвями с морсо других людей, особенно тех, кого мы любим, и в этом лесу деревьев-душ светло, радостно и спокойно. А над ним, как над подростом, возвышается вечное омиа-мони – небесное древо жизни, уходящее вершиной в бесконечное пространство.
Кэку, поди-ка, уже представляет себя почкой на ветви омиа-мони. Ей тесно в желто-коричневой полураскрывшейся оболочке почки, и она рвётся из неё, потому что поскорее желает стать чока. Но на самом-то деле старуха раздирает подол своего халата, и узкие ленточка ткани падают на землю как отщелучившиеся чешуйки…
Чикуэ Золонговна знала, что и ей самой придёт время снова вернуться на омиа-мони, но она не хотела быть при этом ойбонгойли. Хорошо, если бы вход в другой мир открылся для неё сразу, чтобы долго не мучиться и никого не изводить своей беспомощностью.
Собирая утреннее угощение для Кэку, Чикуэ Золонговна то и дело глядела в окно: не вышла ли соседка на крылечко? Но старушки пока видно не было. В её дворе гуляли три пёстрые курицы и большой огненно-красный петух – вся живность, которую она ещё позволяла себе держать. Петя почему-то покинул пеструшек и с недовольным видом топтался у крыльца; время от времени хлопая крыльями, он громко кукарекал и тряс головой. Обычно петух вёл себя так, если у Кэку в доме был кто-то посторонний: кочет не переносил чужих людей, и старательно дожидался удобного момента, чтобы исподтишка клюнуть чужака в ногу.
И точно, отворилась дверь и на крыльце показалась почтальонша Шура. Чикуэ Золонговна, увидев её, вспомнила: сегодня же тот день, когда Кэку приносят пенсию. Она давно ждала этих денег. Зачем-то они ей нужны были, хотя, в общем-то, старушке на хлеб хватало, да и соседи жалели её – кто рыбки подбросит, кто пирожками угостит или картошки принесёт.
Петя, завидев Шуру, подбоченился и, наклонив голову, громко забормотал свои петушиные угрозы. Почтальонша прижала к животу сумку и, не решаясь сойти вниз, замахала на него. Позвать на помощь хозяйку она, видно, стеснялась.
– Ну, погоди-ко! – сказала Чикуэ Золонговна. – Ишь, какой храбрец! Со слабой женщиной драться…
Она выскочила на улицу, проворно вбежала во двор соседки и шуранула Петю подхваченной по пути хворостиной. Тот недовольно кукарекнул, куры поддержали своего султана истошным кудахтаньем. Но Чикуэ Золонговна прикрикнула: «Кыш!» – и куриное семейство метнулось к сараюшке.
– Ой, спасибо-то вам какое! – обрадовалась Шура. – Страсть, как пугаюсь этого забияку. Прошлый раз так хватил за колено – синяк неделю не сходил, – и без всякого перехода затараторила: Хорошо, что вы к бабке Кэку пришли. Она, как деньги получила, куда-то засобиралась, едва шевелится, болеет ведь, а слушать ничего не хочет: пойду, мол, идти мне надо, не скажу, куда, какое кому дело. Уж вы бы с ней поговорили, что ли. Она вас слушается, – и вдруг ахнула, хлопнула себя по лбу. – Ай! Болтаю-болтаю, совсем забыла… А ну, пляшите!
– С чего это?
– Вам сразу два письма. Одно, смотрите, какое важное: казенное, из музея никак – особый штамп, адрес на компьютере напечатан… А это – обычное, но марки красивые, никогда таких не видела. И где люди их покупают? Ну, что ж вы не пляшете-то?
Чикуэ Золонговна знала, что Шура от неё не отстанет – традиция в селе такая: пришла весточка – пляши. Пришлось притопнуть и прихлопнуть для вида.
– Вот, получите! – Шура протянула конверты и напомнила: – А вам пенсия по графику через два дня. Ждите. Побежала я дальше…
Чикуэ Золонговна сначала вскрыла казенное письмо. Точно: из краеведческого музея! Эдуард Игоревич сообщал, что открывается новая экспозиция – шаманская, и в ней будут представлены уникальные экспонаты. Он просил мастерицу приехать в город дня за два до открытия: только она сможет обновить тамбурный шов на одном старинном халате; кого ни просили – не получается. Проживание в гостинице, обеды-ужины музей оплачивает, работу – тоже.
– Ишь, как заманивает: «гарантируем оплату реставрационной работы», – хмыкнула Чикуэ Золонговна. – Как будто меня только деньги интересуют! А, может, не надо мне никаких денег. Может, я для души всё это сделаю…
Она поворчала, недовольная официальным тоном письма, но всё-таки была польщена: не забывают о ней в городе Ха, чуть что – зовут старушку на помощь. Надо, ох, надо молодых учить искусству нанайской вышивки и шитья! Уйдут старые мастера, кто девчонкам покажет хитроумные приемы, натаскает по особенностям кроя, покажет, как краски из трав, кореньев и плодов готовить.
Второе письмо было от Марго. Чикуэ Золонговна даже удивилась: надо же, вспомнила, нашла время, чтобы поблагодарить за прошлый приём, так и написала: «приём», как будто она, обыкновенная пожилая нанайка, какая-нибудь важная птица, вроде принцессы или кого там ещё, – изволит принимать визитёров. Ну, Марго слова в простоте ни скажет, ни напишет – обязательно ей надо что-нибудь эдакое вывернуть. Она и про Сергея Васильевича в послании поминала: дескать, господин Уфименко тоже велел кланяться госпоже Киле, помнит и любит её. Правда, любит не так, как Марго, которой он, оказывается, предложил руку и сердце. Между прочим, Андрей тоже скоро перестанет холостяковать: женится на Насте, свадьба через две недели. Недавно Марго его видела: счастливый, доволен вкусной и здоровой жизнью, нет-нет, вы не подумайте, что он миллионером стал – просто он находит удовольствие в самом существовании, которое прекрасно само по себе, и дал же Бог человеку такую благодать – просыпаться и засыпать с мыслью, что он счастлив.