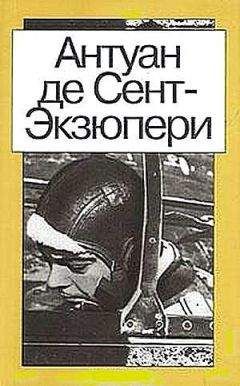Анатолий Михайлов - У нас в саду жулики (сборник)
– Товарищ Михайлов? – и точно сверяет на своем документе мою фотографию.
Я говорю:
– Ну, я. (Еще спасибо, что не гражданин.) А в чем, – спрашиваю, – дело?
Она говорит:
– Завтра в 14–00 вы должны явиться на улицу Дзержинского, дом 1. Назовете свою фамилию – и вас пропустят. – И, выполнив свой профессиональный долг, испаряется.
Со мной желает провести профилактическую беседу полковник КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Федор Васильевич Горбатых.Красная капля
Кнопка настольной лампы никак не хотела нащупываться, а когда, все еще с закрытыми глазами, я попытался нашарить подушку, но вместо одеяла запутался в расползающихся лохмотьях, точно последним подтверждением, что это уже не сон, – чуть ли не у самого уха кто-то напористо засопел и вдруг неожиданно зарычал, как будто где-нибудь в зоопарке, когда-то, еще в Москве, я что-то подобное уже наблюдал – по-моему, это был ягуар, а может, и леопард – в пронумерованной секции тусклокаменного загона с прибитой к решетке табличкой и миской обглоданных костей в порыве нахлынувшей нежности он положил на свою пятнистую сокамерницу увесистые лапы, и, что-то рыкнув ему в ответ, она его лизнула в усатую морду, и все прилипли к прутьям, а некоторые из взрослых даже усадили своих малышей себе на плечи; и когда я приподнялся на локте, то прямо без всякой скатерти вперемежку с отогнутыми языками консервных банок и каждая со своим стаканом выстроились пустые бутылки; но больше всего удивили окурки: вместо того чтобы просто лежать, они как-то вызывающе торчали, и не по отдельности, а целыми островками, напоминая плантации опят, – иногда так вот продираешься, раздвигая ветки, по хрустящему валежнику и у вывороченного корневища в задумчивом ореоле пня вдруг замечаешь замшелое ожерелье; а может, и не опят, ведь бывают же, говорят, и ложные, но скорее всего самые обыкновенные поганки; а вместо шторы окно было как-то неряшливо занавешено, и через щель между фанерой и рамой с улицы просачивался свет, потом неожиданно пропал – наверно, погасли фонари, и все, что стояло на столе, превратилось в сплошное пятно, сначала густое и темное, но с каждой минутой все отчетливее и прозрачнее, как будто в проявителе, и вот, уже приобретая контуры, пошел на прояснение размазанный по тарелке маринованный помидор… и вдруг я увидел плетеный шнур с зигзагом проехавшей по потолку трещины, каким-то назойливым наваждением мерцала спираль замызганной лампочки, и, точно по команде, все как-то разом зашевелились и потянулись к умывальнику: внизу нажимаешь – и льется в обшарпанный таз, как будто где-нибудь на даче или в пионерском лагере, кто в плавках, а кто в комбинации, но некоторые уже и в подтяжках, и лезут, пихаясь, без очереди, как на большой перемене в буфете, и, с наслаждением пофыркивая и брызгаясь, дурашливо надувают щеки, и на деревянной вертушке крутилось вафельное полотенце с темными отпечатками пальцев; и некоторых даже можно было узнать: из «Галантереи» или из «Подарков для мужчин», и оставалось только накрасить губы и к фирменному халату пришпилить эмблему универмага «Восход», а если из мясного ряда, то напялить заляпанный фартук и отнести рыночному «точиле» уже затупившийся тесак; уперевшись локтями в колени и обхватив ладонями голову, я застыл в позе мыслителя, а на полу под босыми ступнями все наглел и щипался ветер, и один, уже в рубашке и при галстуке, отворил заскрипевшую дверцу и, аккуратно сняв с вешалки мое барахло, похлопал меня по плечу; и не успел я затянуть ремень, как откуда-то снизу кто-то потерся, и я вдруг зафиксировал клочок и возле круглой печати изображающие не совсем понятное слово завитушки, но, сколько я, напрягаясь, ни морщился, так ничего и не разобрал, и там, где только что теребили, теперь послышался шепот, а следом за ним и другой, только теперь уже не снизу, а откуда-то сбоку, даже не шепот, а такой назидательный шепоток: «Ну, Шурка, смотри, доиграешься…» – и почему-то мелькнуло: наверно, чья-нибудь дочь… а когда, наконец, пришел в себя, то был уже аэропорт Анадыря – хрипящий громкоговорителем грязно-серый сарай с помятыми пассажирами и сдвинутым дорожным хламом, и рейс на Пинакуль непонятно на сколько задерживался, и, не находя себе места, я купил билет обратно и уже в Магадане, выскочив из автобуса, тут же рванул в диспансер, и там, выслушав мой взволнованный рассказ, мне вытащили из папки фотографию и потом спросили: «Она?», и я сказал: «Да. Она», и с фотокарточки в завязанной на бантик косынке с корзиной в руке улыбалась известная на все Охотское побережье Шурочка Виноградова; в свои восемнадцать лет она выглядела года на четыре моложе и успела уже заразить тридцать восемь человек, но теперь у нее вынужденный простой, а после окончания инкубационного периода ее под расписку выпустили, и она только бегает в ресторан за водкой, но по пьянке как-то расслабилась и по привычке раздобыла «клиента», но потом взяла себя в руки, и меня, если верить анализу, слава Богу, пронесло: наверно, просто положили отдохнуть и до утра так никто и не востребовал; а справка, что у нее гонорея, уже давно устарела, но Шурочка ее все равно всем показывает и даже как-то гордится: а то еще подумают – сифилис; и, прежде чем снова лететь на Чукотку, пока еще действует в паспорте штамп, надо было опять доставать на билет, и оставалось самое последнее – сдать свое «красное золото», обычно я сдаю четыреста пятьдесят грамм и сразу же бегу в бухгалтерию и получаю свои «кровные» сорок пять рублей, да плюс еще талон на бесплатный обед со сметаной; и, когда после обеда я пришел за справкой, меня вдруг пригласили в кабинет, и я сначала обрадовался, ну, вот, наконец, и дождался, наверно, дадут почетную грамоту и еще нагрудный значок донора-ветерана с изображением красной капли; мне его уже давно обещали; но перед вручением награды каждого кандидата решили проверить на желтуху, а также на венерические заболевания, и на всех претендентов сделали в диспансер запрос, и, неожиданно для медперсонала станции, я почему-то оказался зарегистрированным, и весь мой зафиксированный рассказ теперь был засвечен и здесь, да плюс еще один за другим два прошлогодних триппера; и, вместо рукопожатия, заведующая, уже совсем седая, точно в прицел пулемета, с нескрываемым отвращением стала меня полоскать, чтобы я к ним вообще забыл дорогу, и, будь ее воля, она бы таких, как я, собственноручно кастрировала, а я, опустив голову, молча стоял и слушал, и, когда, вытащив из кармана, придвинул ей на столе уже приготовленные в кассу Аэрофлота девять пятерок, она, так брезгливо поморщившись, чуть не швырнула мне их обратно в морду; а мою кровь потом из пробирок всю вылили, как будто это лак для ногтей или отрава от насекомых, а меня самого, теперь уже навсегда, прямо при мне вычеркнули из учетной карточки.
В подвале у переплетчиков я перехватил до получения командировочных червонец и, ради такого события, решил шикануть коньяком. И для изысканности вкуса приправил его швейцарским сыром, у нас в гастрономе вдруг выкинули. А вечером состоялся банкет, и, как всегда, завершился уже традиционным скандалом, на этот раз, правда, каким-то вялым, и обошлось даже без топора.
А на скандал я нарвался по собственному желанию: нарочно затеял дискуссию про латыша. Но Зоя все никак не раскочегаривалась и хотя про вахтершу и вспомнила, но как-то без привычной боевитости. Но потом все-таки не выдержала и в конце концов распалилась уже по-настоящему, так что я и сам был не рад (как бы, думаю, не переборщить: завтра такая встреча, а тут вдруг под глазом фонарь, как-то все-таки некрасиво). И, не на шутку разнервничавшись, Зоя поставила меня на место. (Ну, что, – улыбается, – гнида… допрыгался…)
Ну, я, конечно, обиделся и, во избежание кровопролития, подался в сторону моря.
Пришел на пирс (где еще в 68-м припухал в качестве шлюпочного на вахте и где потом, когда вместе с ящиком водки повез «на хора» камчадалам тутошнюю Офелию, мне начистили рыло: меня на пирсе ждут, наш «Иваново» тоже на рейде, и я на него должен переправить команду, и даже пустили из ракетницы салют, а я все еще на «Стрельце» и уже не вяжу лыка; и за бутылку «Зверобоя» пришлось уламывать шлюпочного с «Капитана Ерина», ну и «мотыль» мне тогда по полной программе и отстегнул) – и такое на меня вдруг нахлынуло вдохновение, наверно, как на Эрика Махновецкого, когда ко мне на верхотуру вдруг приперлась его жена. Эрик дал ей задание – предупредить всех «наших», чтобы держали язык за зубами, и привезла мне подборку Ходасевича, я оставил ее Эрику до встречи. А погорел он тогда на самиздате, давал товарищам на Хасыне читать Даниэля; ну, и, конечно, мне, – «Говорит Москва».
Вдобавок ко всем нашим дням танкиста или, например, пограничника вдруг объявили еще и «День открытых убийств». И в этот день ты можешь кого угодно шлепнуть и тебе за это ничего не будет. Ну, а по радио Левитан так взволнованно предупреждает, чтобы не «тянули резину». Сегодня или никогда. И все, конечно, на бровях, а в центре внимания художник и его хахальница. Все еще уговаривает уконтрапупить ее мужа, но художник никак не может решиться. И она его за это стыдит и даже обзывает «слякотью», но это все равно не помогает. А ее муж тут же, в этой же самой компании, и тоже все кого-то никак не укокошит. И так весь день с утра и до самого вечера. А вечером уже сам автор приходит на Красную площадь, и тут ему вспоминается война, и со свастикой на броне уже показался танк… за ним еще один… и еще… и крупным планом вражеское дуло… пора и вытаскивать гранату… и вот он уже сам себе командует: ну, а теперь – рвануть за кольцо!!! – Но танк на самом деле совсем не танк, а Мавзолей, а высунувшиеся из люка морды фашистов – обычные в надвинутых на лоб шляпах сталинские «соколы»…