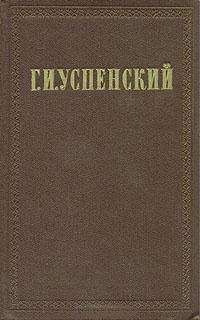Глеб Успенский - Том 5. Крестьянин и крестьянский труд
И случилась в тот год, говорю я вам, ранняя весна. Никогда старики такой ранней весны не видывали. Зиму почитай что и снегу не было — все тепло и туман… А ежели и снежок выпадал, так сейчас и дождь. И стала весна вполне в такую пору, когда в прочие времена еще сугробы снега лежат и метели крутят по дорогам… Старики долго остерегались ее, этой весны-то, — думали, не ударят ли морозы, — ан нет, тепло и травка… Погодили, погодили и принялись за работу… И отработали мы весенние дела почитай что недели за две раньше, чем в прочие-то годы… Отработали мы так-то, глядь — и весь порядок у нас сдвинулся набок, и вышло у нас так, что перед Петровым днем вылупились две лишних недели… Что по весенним работам следовало, то уж пошабашили; а что надо было насчет летних — то рано. И межупары прошли, а всё две недели пустого места остается; всё переделали — какие мелочи, починки, а все много время… Чисто вот как трещина какая вышла!.. Хоть что хошь, а нету никакой работы… И направо работа была, и налево взять работа будет, а посередке — ровно дыра какая… Уж мы в это время и песни играли, и так лежишь — спишь, сколько влезет, и опять за песни — все некуды девать. До того дошло дело, что уж старые старики, почтенные, и те не знают, как распорядиться, даже в ладыжки — побожиться, не вру — игрывали… Ведь даже смеху достойно было смотреть, как прародители-то эти соберутся… «Ну-ко, говорят, кости-то поразмять…» И в рюхи игрывали. Иной старик на одной ноге с дубиной скачет, точно ребенок малый, — вспомнить, так посейчас смех разбирает.
Вот раз так-то вечерком и разыгрались — и старики и молодые, и девки и бабы, и малые ребяты… Веселое время было, у всех на сердце было весело, потому урожай господь давал небывалый… А уж как хлеба много будет, так мужик прямо от веселья пьян… Разыгрались до того, что даже староста обмотался весь холстами да взмостился на ходули и стал народ пугать… А мы, молодые, кто как — кто колесом, кто как обдумал… Вот и я тут же. А я в ту пору, хоть было мне под двадцать годов, как вспомню, так был подобен малому ребенку. Ничего я тогда этого не знал — ни водки, ни трактиров… Играл так, как ребята играют… Всем весело, а мне пуще всех!.. И была у меня в руках дубина… Перво-наперво «в рюхи» играл, дубиной бросал, а потом и так стал махать зря, старосту с ходуль этой дубиной снес, только всех насмешил… А надо вам сказать вот что: пришлось мне везти на станцию какого-то приказчика, и дал мне тот приказчик двадцать копеек на чай: «поди, говорит, выпей чаю». Вот я и был однова в трактире. Пил я чай и все глядел, как на билиарте играют… Я уж после узнал, что это билиарт называется, а тогды я только смотрел, что за игра такая, и слушал, что говорят. Вот и запомнил я три слова: «Дуплетом — в угол — мимо!» Вот как разыгрались мы по деревне, я и упомнил эти слова-то; и в рюхи играл, а все повторял их; и как с палкой гулять стал, тоже всё они на язык лезут. Тятенька покойник — веселый, помню, сидел на завалинке — говорит: «что бормочешь?» А я не знаю, что эти слова и значат… Размахнулся дубиной, пустил ее в рюху или в собаку, а язык сам прибавил: «Дуплетом — в угол — мимо!» Играли, играли так-то, уж и темнеть начинало — уж не один староста, а человек пять на ходулях по селу пошли девок и баб пугать — стали медведями наряжаться, а я все во всех местах с своей дубиной и все: «Дуплетом — в угол — мимо…» Вдруг как шарахнет на меня из-за плетня мужик, прямо под ноги, на четвереньках, овчиной вверх оделся, заревел, я и не поостерегся да дубиной-то, значит «дуплетом — в угол — мимо», как резну с разбегу-то, глядь — медведь-то и растянулся… Застонал, распластался весь… Так я и ахнул… Ведь отца родного… Батюшки мои, батюшки мои миленькие!.. (Рассказчик плакал в три ручья и косил.) Он, родимый мой, сидел, сидел на завалинке-то, любовался баловством нашим, потом (сестра сказывала) «погоди, говорит, я их пугану…» Пошел, надел овчину, да на четвереньках и сунулся в народ, замычал по-медвежьи… Тут-то я его и…
Уж тут-то я рыдал, тут-то я тятеньку моего родного, батюшку, целовал-обнимал, тут-то я убивался! Кажется, все нутро у меня как печь раскаленная от горя, от тоски… А уж кончено, ничего не поделаешь… Аминь!.. Как что было, ничего не помню: как хоронили, как меня мыкали-судили, как в темной сидел, как в суде был, что говорил — все равно как во сне это для меня было… Окончилось дело — на год на покаяние в монастырь. Покуда суд да всякая волочба шли, так еще все я опамятоваться не мог, все как сонный… А как определили меня в монастырь — в лесу он стоял, тихо там, народу нету, праздники осенние, — как остался я тут, и стал думать, стал соображаться, как быть, что делать… Стал думать-то, а делать уж нечего — уж все пошло прахом, все повалилось… Заместо того чтоб об осени две свадьбы играть да на две души силы прибавить — ежели бы то есть сестрин муж и моя жена прибавились, — пришлось дому остаться совсем без народу: меня нету, родителя нету, осталась одна сестра… Пришло бедняге так, что продала на корню весь хлеб, подати еле-еле отдала, две души в общество сдала и уж кое-как выплакала земельки на одну-то душу — думает, ворочусь я все как-нибудь… Какая была скотина лишняя — продала, наняла работника, посеялась и перебивается зиму-то с хлеба на квас… А зима опять без снегу стояла, и опять весна ранняя, да тут уж не так, как в прошлый год. Вся деревня с весны тосковать стала, потому в позапрошлую зиму хоть и не было снегу, да места у нас и так мокры, тепло-то и взялось за эту сырь да за лето-то всю ее и вытянуло из земли-то. Урожай был точно на диво… Ну, а уж на другой-то год, без снегу-то, уж трудно земле-то стало. А весна-то пришла жаркая, сухая; стало палить-нажаривать с самых первых дён; выдернуло колос сразу, а потом и стало его жечь. Земля стала белая, и что дальше, то крепче… Молились, молебны служили, а не дал бог дождя; сделалась земля как камень крепкая. Тут уж не до гулянки. Не то чтобы песни петь, а, рассказывают, принялись бабы выть, да обмирать, да за обедней выкликать зачали… Пошли слухи про светопреставление, про антихристово пришествие… Затосковал народ… А солнце палит, как печка раскаленная. Прижгло все начисто. Еле-еле на две недели травы собрали, семян только-только на посев, да и то у исправных, богатых, а уж наш дом совсем развалился. Осталась сестра без всего… Какие были деньжонки или скотина — все разошлось в год-то по мелочи… Одному мне сколько, сердечная, передавала! Все надо! и по судам и в монастыре — письмо написать, сторожу дать, караульного поблагодарить, когда булочку купить, из одежи тоже нуждался… Всё по мелочи, по мелочи, а всё не в дом, всё из дому… А в монастыре братия тоже не ласкова, коли не угостишь… Тут я с тоски по разоренью и сам стал рюмочки придерживаться, а до этого капли не брал… Исхудал я тут, истосковался, измучился — не знаю, что и будет… Отбыл свой термин, пошел в деревню… Ничего нет! И последней души удержать не могу — сдал. Тут вступил Ермолаевский полк (должно быть, Ингерманландский), в десяти верстах стал. Стала сестра ходить туда стирку брать… А я и не знаю, за что взяться. Стали у нас на деревне ребята собираться в Питер на поденщину — ну, подумал-подумал и ушел с ними… Авось, думаю, счастье бог даст… И что же ведь? Послал господь, да дурак я был — не умел я понимать… Вот наше горе мужицкое — обломы, неотесы!.. А ведь какая штука-то навернулась, сказать ли тебе?..»
Рассказчик помолчал, заинтересовывая меня и этим молчанием и загадочно-развеселившимся лицом.
— В любовники прямо, с одного маху влетел, почитай что только нос показал в Питер-то!.. Да ведь, брат ты мой, порция-то какая попалась! Своих, чистых денег скоплено было у ей, у этой самой Аграфены, под пять сот рублей да два сундука всякого добра нажито, пудов по двенадцати в сундуке! Ведь вот какая штучка подвернулась! Мне бы — ежели бы, то есть, имел я человеческий ум — мне бы самому надобно бы ее на брак склонять. Я бы сам должон был вовлекать ее в эфто дело да на пять-то сот в своей же деревне кабак либо лавочку открыть, и были бы все сыты, и все бы было честно, благородно. То-то ума-то нет!.. Наместо того за всю ейную любовь только и было моих мыслей, как бы ей хуже сделать, чтобы ей было как поскверней. Вот какая дубина!.. Потому что не понимал я этих любовных поступков; представилось мне все это как подлость одна… Неотес!..
Перво-наперво недели с две, как в Питер-то пришли мы, шлялся я без всякого пропитания… Еле-еле три копейки на ночлег выпросишь христа-ради… Думал, подохну где-нибудь, как собака… А тут иду однова по Пескам, по Восьмой улице, — сидит у ворот старичок-дворник… Иду и сам не знаю куда. Увидал старичка, говорю: «Нет ли какой работы?» Сначала-то говорил — нету, а потом поразговорился, порасспросил — «постой, говорит, я к барыне пойду»… Пошел и вскорости воротился. «Хочешь, говорит, три рубля — оставайся!» Я и остался в подручные ему. Домик был не велик, деревянный, шесть квартир, во флигеле еще три махонькие… Вот я и стал ворочать и воду, и дрова, и сор… Рад, что хошь щи-то ешь каждый божий день. Вот в эфто время и увидал я Аграфену. Принес я в первый раз дрова в хозяйскую куфню, вижу — женщина, одета по-хорошему, ростом коротковата, волосом черная, а годов ей на вид уж за тридцать, однако не похожа на старуху. Увидела она меня, и остановилась, и смотрит — я дрова складываю, а она смотрит; потом вздохнула и пошла, а потом опять пришла. Она мне потом сама сказывала: «Ты, говорит, сразу мне полюбился. Я, говорит, как увидала тебя, так в ту же пору о тебе затосковала...» А меня — я по совести говорю — ежели бы с неделю покормить в ту пору хорошо, так я бы после голодовки-то ловко выправился… Вот Аграфена-то и поняла это. Пришел я на другое утро с дровами, опять она в куфне. «Ты, говорит, устал, вот тебе кофейник, пей кофий с черным хлебом». Выпил я тут стаканов с десяток — до того, что уж один кипяток в стакан наливаю, а Аграфена только ухмыляется, головой качает. С тех пор стала она меня в свою комнату звать кофий пить. Приду, сложу дрова или воду вылью в кадку — «иди кофей пить». Заведет меня под лестницу, принесет булок, калачей — ешь! Я пью, ем, а она на свою горькую участь жалуется. «Всю жизнь, говорит, свету не видала. Сирота круглая. С малых дён жила в казенном приюте, кормили плохо, строгости большие, всё божественному учили, чтобы потом в прислуги в хорошие дома отдавать… Взяли, говорит, потом в прислуги, прожила я в хорошем доме двадцать лет — ни дня, ни ночи не видала покою. Барыня была старуха божественная, поедом ела. Сколько, говорит, женихов сваталось — всех прогнала барыня-то. Жениха прогонит, а мне пригрозит: в аттестате напишу!.. А не то, говорит, иди: ни жалованья, ни одежи не дам. Так и жила как в тюрьме». Померла эта божественная-то барыня, поступила Аграфена к другой — к той самой, у которой дом и где я место получил. Жила она здесь свободно, барыня была вдова, все плакала по мужчинам — всё они ее обманывали… И Аграфена также все о мужчинах тосковала, что дожила она до каких лет, а никакого удовольствия не видала. Вот они обе и сошлись — и барыня и ключница. И у куфарки был любовник — музыкант полковой. Так у них у всех и было согласно все по любовной части. Одни женщины да любовники, только Аграфена все разыскивала себе по сердцу. А тут и нанеси меня нелегкая… Вот и стала она меня кофием поить. да про горькую участь свою рассказывать… Я пью-ем, а она говорит-говорит, каким хорошим женихам отказала, как свету не видала, да и заплачет. Я поем, попью и — уйду. А стал я шибко разъедаться с этих кофиев. Стала Аграфена меня даже котлетами кормить с барыниного стола и между прочим плачет и говорит: «И кто бы меня успокоил!..» Я поем и — пойду. Проходит время, стала Аграфена так говорить: «Миша, неужто ты меня не успокоишь? Разве ты не понимаешь, что я тебя кофием пою и прочие предлагаю закуски не зря?.. Ведь зря-то, говорит, я и собакам могу выкинуть». А я, ей-богу, перед богом сказать, в толк не возьму, чем я ее успокою?.. Три рубля жалованья всего-то на месяц — из чего тут угощать? «Нечем, говорю, мне тебя успокоить». Что день, то она все явственнее стала доказывать, а я все ответа ей не даю, потому порядков не знаю… День за день, день за день, наконец, того, однажды плакала-плакала она, покуда я пил-ел, потом видит, что от меня нету ей никакого смысла, отерла глаза платком и говорит проворно таково: «Ну, говорит, коли ты до сих пор ни в чем не имеешь понятия и слов моих не слушаешь, так должна же я как-нибудь сама присодействовать. Ступай, одевайся и жди меня за воротами». Допил я кофий, пошел, оделся и вышел за ворота. Спустя время выходит и Аграфена. «Иди, говорит, за мной». Ну я и пошел. Она все по переду идет… Шли, шли и пришли в Большую Мещанскую… Есть там гостиница «Ломбардия», потому она как раз напротив ломбарту помещается. Аграфена все вперед, а я все за ней… Так нешто я понимал что? Ведь никто ей не велел — сама догадалась…