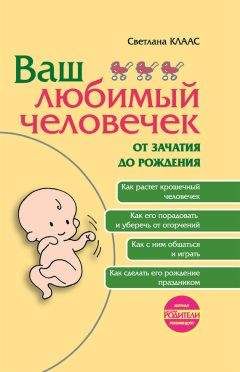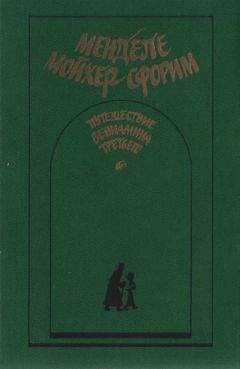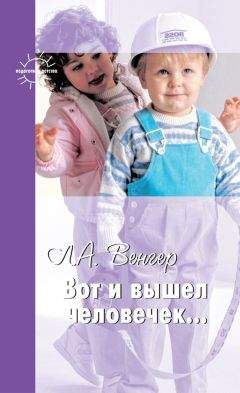Лев Толстой - Том 10. Произведения 1872-1886 гг
Спутав своих двух замученных лошадей и пустив их, Корней пересчитал с Евстигнеем всех лошадей, помолился богу и подошел к мужикам, лежавшим под шубами и кафтанами над лощиной у пашни, и сел у огонька, который развели мужики. Чередные караульщики с дубинами, покрикивая, ходили около лошадей в лощине, а остальные уже спали. Не спал только старик и Щербач.
Один из мужиков, карауливших лошадей, лежавших под тулупами, поднялся, почесался и подошел к огню и присел на корточки. Они говорили про солдат. Весь этот месяц шли [?] солдаты.
— Мало ли их пропадает. Теперь сказывают, в Перми что их сгорело. Пришли на такое место, что из земли огонь полыхает. Все и погорели, — сказал этот мужик.
Мужик этот был сосед Корнею, звали его Юфан Щербач. Он был мужик большой, здоровый, рыжий. Два зуба у него были выбиты, оттого и звали его Щербатым.
— Куда уж он их, сердешных, не водил, царь-то. И то сказывают, что не заправский он царь, а подмененный. В Стекольном городу.
— Буде пустое болтать, чего не знаешь, — сказал Евстигней. — Верно служивый сказывал, вчера стояло у меня в дому шесть человек и набольший — капрал — называется. У тех суда зачесаны виски, а у этого длинные, здесь как вальки. А человек ученый. Я его про нашего барина спрашивал. Он знает, да говорит, он нынче в беде. Как бы, говорит, вас у него не отобрали.
— А нам что же, отберут, за другим запишут, — сказал Евстигней. — Все одно подати платить.
— Ну, все разница.
— Да мы и не видали этого. Что ж, обиды нет. Поговорив так, Щербатый отошел, и остался один
Корней с Евстигнеем. Дядя Евстигней был крестный отец Корнея. Он был мужик богатый. У него было три сына: два женаты на тягле. Сам он был мужичонка маленький, седенькой, с длинными волосами и редкой бородкой — мужичонка смирный, разговорчивый и умный. Он знал, что Корней доваживал овес.
— Довозил, что ли? — спросил он.
— Остались семь крестцов, — махнув рукой, сказал Корней.
Он хотел было сказать отчего, но вспомнил, что говорить про это не годится, что родильница хуже мучается, когда люди знают, и сказал, что лошади стали.
— Заморил совсем, перемены нет: и возить, и пахать, и скородить; из хомута не выходят, сердечные. Все один. Так вот и живешь, крестный. Люди уже отсеялись, а я еще не зачинал, да хлеб в поле. Эх, крестный, плохая моя жизнь, — и Корней насупился, глядя на огонь.
Редко ему доходило так тошно, как нынче. И так в избу не заходил бы. Крики, визг, девчонки эти, та — убилась, та — хлеба просит, а теперь в самую нужную пору еще родит — гляди, опять девчонку, да сляжет, как с тем брюхом. Не то, что помога, а обуза. — Плохая моя жизнь, — повторил он. — Головешка одна, сколько ни чади, и та затухнет. А вот все не хочется дом упускать.
— То-то, я чай, жил старик, убил бы его, а нет, купил бы, — сказал Евстигней.
Корней оглянулся на старика.
— Нет, крестный, что ж, я против родителя никогда не грубил, — сказал он. — И при родителе трудно бывало, вся, бывало, работа на мне, да я этим не брезговал. Хоть он меня и не любил против Михайлы или Савелья, никогда не верстал, а я грубить не мог.
— Пуще всего, милый, родителей поминай. Родительское благословенье во всяком деле спорину дает. А ты не тужи, бог труды любит.
— Да не работа, забота сушит, дядюшка. Все как будто не хочется дом упустить, а что же сделаешь один. Бьешься как рыба об лед, а толку нет ничего. Все-то я распродал, пчел перевел, кобылу продал, а и приждать-то нечего. Одне девки растут. От них помоги не приждешь.
— А ты вот что, Корней, ты малый крепкий и не дурак, ты не греши. Так-то сказывал божий человек летось, у нас ночевал, про святого отца, что ли. Был такой-то, на навозе, говорит, десять годов лежал, весь в гною, тело все сопрело, червь напал на него, так его Макарка беспятый, нечистый значит, смущал: «Пожалься, говорит, на бога, тебе, говорит, легче будет терпеть», — на грех его смущал, так он, значит, не поддался ему, говорит: бог, говорит, дал, бог, говорит, и взял. А богатый допрежь того был. Скота, говорит, тысячи, что ли, было. Семья тоже была, сыновья, жена — все померли. Он говорит Макарке беспятому, — ты, говорит, меня не наущай на бога обижаться. Когда, говорит, мне бог достатки посылал, я, говорит, не брезговал, примал, надо и теперь, говорит, примать, чего посылает, — терпеть, говорит, надо. Так-то сказывал хорошо, бабы наши наплакались, слушамши. Так-то, Корнеюшка, терпеть надо.
Корней, начавший переобуваться и парить на огне подвертку, бросил переобуваться и, повернувшись к старику, слушал его. Старики мало спят и любят говорить. Евстигней разговорился, он покачал головой, задумавшись, и опять начал:
— Ну, то святые отцы, я тебе про себя скажу. Тоже не завсегда и мы хорошо жили. Вот теперь ребята подросли, благодарю бога. — Старик перекрестился, повернувшись на восход, — а то тоже нужду видали. Ох, и видали же нужду. Про Андрея Ильича слыхал ли? Ну вот то-то. Были мы тогда Вяземского-князя. Он приказчиком у него был. Грузный, брюхо — во, на тройке не увезешь. Было дело еще при том царю, при Лексее Михалыче. Забунтовали на низу. Какой-то Степан Тимофеич проявился. У нас только слухи были, что за старую веру поднимается народ. Вот и случись, у нас в дому заночевали двое незнамо какие люди. Схватили их уж в Рагожином, во дворах, свезли во Мценский, позвал меня Андрей Ильич. А он на меня давно серчал, что я у него собаку убил. Я был годов тридцати, так же, как ты — одинокий, без родителя остался, Егор еще и женат не был. Позвал, сказывай, говорит, что прохожие люди с тобой говорили. — А чего говорили? Поужинали, покалякали об Степане Тимофеиче, что он город взял какой-то, больше и речи не было, и легли, наутро проводил я их за ворота. С богом! Спасибо. Я сказываю. — Нет, говорит, что еще говорили, все сказывай, а то разорю. Ты и так, мол, не работник. Возьму в двор и бабу, а брата в солдаты отдам. Говори. — Да что говорить? Ничего не знаю. — Сказывай, запорю. — Все я сказал. — Утаиваешь! Розог! — Повели меня в ригу. — Ложись. — Лег. Принялись пороть. Двое держат, двое стегают. Наше вам, наше вам. Только поворачиваешься. — Сказывай. — Чего сказывать? Ничего больше не знаю. — Клади еще, наше вам. Так-то отбузовали, что на кафтане снесли. Мало того. Не скажешь, говорит, дом твой разорю. Да это бы ничто. Побои не на мне — на нем остались. Нет, собака, разорил ведь. Взял во двор. Послали жену кирпич бить, а меня в болото канаву копать, дом разнесли, чисто сделали, горно обжигал, сам топил. Так-то, собака, мучал нас три года. Что ж, прошло время, сам же помиловал, отошло у него сердце. Да и тягол мало стало. Бежало много народа, опять построился, завелся, твой отец, кум, помогнул. Вот жив же.
Корней покачал головой.
— Известно дело, дядюшка. Разве я ропщу. Так ослабнешь другой раз. А то известно, мне грех жаловаться. Что ж, слава богу, ни холоден, ни голоден. Жить можно.
— А вот ты баил, тебя отец с братьями не верстал. Не моги родителев судить. Грех. Дороже всего родителей поминать. Тому человеку всегда счастье.
— Да я, дядюшка, не то, что с попреком. Я сам знаю, что мне до Савелья далеко. Тот малый был и ловкий, и обходителен, и ухватист. Родитель-покойник серчал, что я не пошел в службу, а Савелья взяли. Ведь это не моя причина. Матушка меня жалела, а батюшка его. Я отцовского приказа не ослушивался. Пришел тогда выборный, сказывать, что с нашего двора ставить одного, а везти обех, который годится. Нас обех батюшка повез. Только приехал он, пошел батюшка в воеводскую, а Савелий мне и говорит: «Ты, говорит, Корней, не тужи. Я охотой пойду. Я тут не жилец. Мне постыла эта жизнь. Я охотой, говорит».
Как ввели нас в Приказ, только крикнули Захаркиных. Он вперед сунулся. Я, говорит, охотой иду. А, чай, помнишь, малый-то был какой статный, бравый, смелый. Воевода и говорит: «Ай, молодец. Вот так солдат будет, таких царю нужно. Меть!» С той поры батюшка на меня и серчать стал. Ты, говорит, его с бабой своей упросил. А я ничем не причинен. Он сам захотел. Пожалел меня с малыми детьми. Ну да и поминаю я его. Кажется, приди он вот, скажи: Корней, полезай в огонь, для меня нужно. Полезу.
— Что ж, нет слухов?
— Нет, то говорили, что он бежал и за женой присылал, что она к нему ушла, а теперь как в воду кануло, шестой год. Либо помер.
В это время лошади шарахнулись, и мужики закричали.
Старик неохотно слушал разговоры Феофана; он поднялся, оглядел звезды.
— Уж не рано, — сказал он. Воздохнул, повернулся к стороне и помолился, и лег, укрываясь с головой тулупом. Корней сделал то же.
— Вот, — подумал он, — умный-то человек слово скажет — дороже денег. Складно как рассказал крестный про святого отца, что на навозе прел. Есть что послушать, а это что, зубы чесать.
И он потянулся, зевнул и только стал засыпать, как услыхал, что собака дяди Евстигнея не путем брешет, — бросается к дороге.
I часть. I глава