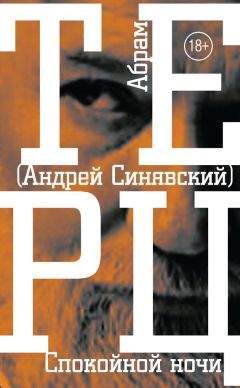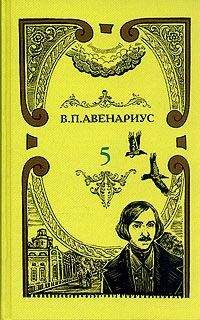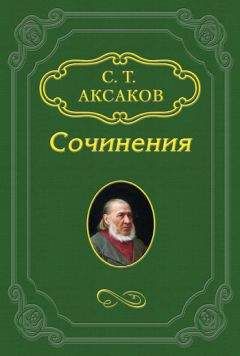Федор Достоевский - Подросток
Глава четвертая
I
Теперь приступлю к окончательной катастрофе, завершающей мои записки. Но чтоб продолжать дальше, я должен предварительно забежать вперед и объяснить нечто, о чем я совсем в то время не знал, когда действовал, но о чем узнал и что разъяснил себе вполне уже гораздо позже, то есть тогда, когда все уже кончилось. Иначе не сумею быть ясным, так как пришлось бы все писать загадками. И потому сделаю прямое и простое разъяснение, жертвуя так называемою художественностью, и сделаю так, как бы и не я писал, без участия моего сердца, а вроде как бы entrefilet104 в газетах.
Дело в том, что товарищ моего детства Ламберт очень, и даже прямо, мог бы быть причислен к тем мерзким шайкам мелких пройдох, которые сообщаются взаимно ради того, что называют теперь шантажом и на что подыскивают теперь в своде законов определения и наказания. Шайка, в которой участвовал Ламберт, завелась еще в Москве и уже наделала там довольно проказ (впоследствии она была отчасти обнаружена). Я слышал потом, что в Москве у них, некоторое время, был чрезвычайно опытный и неглупый руководитель и уже пожилой человек. Пускались они в свои предприятия и всею шайкою и по частям. Производили же, рядом с самыми грязненькими и нецензурными вещами (о которых, впрочем, известия уже являлись в газетах), — и довольно сложные и даже хитрые предприятия под руководством их шефа. Об некоторых я потом узнал, но не буду передавать подробностей. Упомяну лишь, что главный характер их приемов состоял в том, чтоб разузнать кой-какие секреты людей, иногда честнейших и довольно высокопоставленных; затем они являлись к этим лицам и грозили обнаружить документы (которых иногда совсем у них не было) и за молчание требовали выкуп. Есть вещи и не грешные, и совсем не преступные, но обнаружения которых испугается даже порядочный и твердый человек. Били они большею частию на семейные тайны. Чтоб указать, как ловко действовал иногда их шеф, расскажу, безо всяких подробностей и в трех только строках, об одной их проделке. В одном весьма честном доме случилось действительно и грешное и преступное дело; а именно жена одного известного и уважаемого человека вошла в тайную любовную связь с одним молодым и богатым офицером. Они это пронюхали и поступили так: прямо дали знать молодому человеку, что уведомят мужа. Доказательств у них не было ни малейших, и молодой человек про это знал отлично, да и сами они от него не таились; но вся ловкость приема и вся хитрость расчета состояла в этом случае лишь в том соображении, что уведомленный муж и без всяких доказательств поступит точно так же и сделает те же самые шаги, как если б получил самые математические доказательства. Они били тут на знание характера этого человека и на знание его семейных обстоятельств. Главное то, что в шайке участвовал один молодой человек из самого порядочного круга и которому удалось предварительно достать сведения. С любовника они содрали очень недурную сумму, и безо всякой для себя опасности, потому что жертва сама жаждала тайны.
Ламберт хоть и участвовал, но всецело к той московской шайке не принадлежал; войдя же во вкус, начал помаленьку и в виде пробы действовать от себя. Скажу заранее: он на это был не совсем способен. Был он весьма неглуп и расчетлив, но горяч и, сверх того, простодушен или, лучше сказать, наивен, то есть не знал ни людей, ни общества. Он, например, вовсе, кажется, не понимал значения того московского шефа и полагал, что направлять и организировать такие предприятия очень легко. Наконец, он предполагал чуть не всех такими же подлецами, как сам. Или, например, раз вообразив, что такой-то человек боится или должен бояться потому-то и потому-то, он уже и не сомневался в том, что тот действительно боится, как в аксиоме. Не умею я это выразить; впоследствии разъясню яснее фактами, но, по-моему, он был довольно грубо развит, а в иные добрые, благородные чувства не то что не верил, но даже, может быть, не имел о них и понятия.
Прибыл он в Петербург, потому что давно уже помышлял о Петербурге как о поприще более широком, чем Москва, и еще потому, что в Москве он где-то и как-то попал впросак и его кто-то разыскивал с самыми дурными на его счет намерениями. Прибыв в Петербург, тотчас же вошел в сообщение с одним прежним товарищем, но поле нашел скудное, дела мелкие. Знакомство потом разрослось, но ничего не составлялось. «Народ здесь дрянной, тут одни мальчишки», — говорил он мне сам потом. И вот, в одно прекрасное утро, на рассвете, он вдруг находит меня замерзавшего под забором и прямо нападает на след «богатейшего», по его мнению, «дела».
Все дело оказалось в моем вранье, когда я оттаял тогда у него на квартире. О, я был тогда как в бреду! Но из слов моих все-таки выступило ясно, что я из всех моих обид того рокового дня всего более запомнил и держал на сердце лишь обиду от Бьоринга и от нее: иначе я бы не бредил об этом одном у Ламберта, а бредил бы, например, и о Зерщикове; между тем оказалось лишь первое, как узнал я впоследствии от самого Ламберта. И к тому же я был в восторге и на Ламберта и на Альфонсину смотрел в то ужасное утро как на каких-то освободителей и спасителей. Когда потом, выздоравливая, я соображал, еще лежа в постели: что бы мог узнать Ламберт из моего вранья и до какой именно степени я ему проврался? — то ни разу не приходило ко мне даже подозрения, что он мог так много тогда узнать! О, конечно, судя по угрызениям совести, я уже и тогда подозревал, что, должно быть, насказал много лишнего, но, повторяю, никак не мог предположить, что до такой степени! Надеялся тоже и рассчитывал на то, что я и выговаривать слова тогда у него не в силах был ясно, об чем у меня осталось твердое воспоминание, а между тем оказалось на деле, что я и выговаривал тогда гораздо яснее, чем потом предполагал и чем надеялся. Но главное то, что все это обнаружилось лишь потом и долго спустя, а в том-то и заключалась моя беда.
Из моего бреда, вранья, лепета, восторгов и проч. он узнал, во-первых, почти все фамилии в точности, и даже иные адресы. Во-вторых, составил довольно приблизительное понятие о значении этих лиц (старого князя, ее, Бьоринга, Анны Андреевны и даже Версилова); третье: узнал, что я оскорблен и грожусь отмстить, и, наконец, четвертое, главнейшее: узнал, что существует такой документ, таинственный и спрятанный, такое письмо, которое если показать полусумасшедшему старику князю, то он, прочтя его и узнав, что собственная дочь считает его сумасшедшим и уже «советовалась с юристами» о том, как бы его засадить, — или сойдет с ума окончательно, или прогонит ее из дому и лишит наследства, или женится на одной m-lle Версиловой, на которой уже хочет жениться и чего ему не позволяют. Одним словом, Ламберт очень многое понял; без сомнения, ужасно много оставалось темного, но шантажный искусник все-таки попал на верный след. Когда я убежал потом от Альфонсины, он немедленно разыскал мой адрес (самым простым средством: в адресном столе); потом немедленно сделал надлежащие справки, из коих узнал, что все эти лица, о которых я ему врал, существуют действительно. Тогда он прямо приступил к первому шагу.
Главнейшее состояло в том, что существует документ, и что обладатель его — я, и что этот документ имеет высокую ценность: в этом Ламберт не сомневался. Здесь опускаю одно обстоятельство, о котором лучше будет сказать впоследствии и в своем месте, но упомяну лишь о том, что обстоятельство это наиглавнейше утвердило Ламберта в убеждении о действительном существовании и, главное, о ценности документа. (Обстоятельство роковое, предупреждаю вперед, которого я-то уж никак вообразить не мог не только тогда, но даже до самого конца всей истории, когда все вдруг рушилось и разъяснилось само собой.) Итак, убежденный в главном, он, первым шагом, поехал к Анне Андреевне.
А между тем для меня до сих пор задача: как мог он, Ламберт, профильтроваться и присосаться к такой неприступной и высшей особе, как Анна Андреевна? Правда, он взял справки, но что же из этого? Правда, он был одет прекрасно, говорил по-парижски и носил французскую фамилию, но ведь не могла же Анна Андреевна не разглядеть в нем тотчас же мошенника? Или предположить, что мошенника-то ей и надо было тогда. Но неужели так?
Я никогда не мог узнать подробностей их свидания, но много раз потом представлял себе в воображении эту сцену. Вероятнее всего, что Ламберт, с первого слова и жеста, разыграл перед нею моего друга детства, трепещущего за любимого и милого товарища. Но, уж конечно, в это же первое свидание сумел очень ясно намекнуть и на то, что у меня «документ», дать знать, что это — тайна, что один только он, Ламберт, обладает этой тайной и что я собираюсь отмстить этим документом генеральше Ахмаковой, и проч., и проч. Главное, мог разъяснить ей, как можно точнее, значение и ценность этой бумажки. Что же до Анны Андреевны, то она именно находилась в таком положении, что не могла не уцепиться за известие о чем-нибудь в этом роде, не могла не выслушать с чрезвычайным вниманием и… не могла не пойти на удочку — «из борьбы за существование». У ней именно как раз к тому времени сократили ее жениха и увезли под опеку в Царское, да еще взяли и ее самое под опеку. И вдруг такая находка: тут уж пойдут не бабьи нашептывания на ухо, не слезные жалобы, не наговоры и сплетни, а тут письмо, манускрипт, то есть математическое доказательство коварства намерений его дочки и всех тех, которые его от нее отнимают, и что, стало быть, надо спасаться, хотя бы бегством, все к ней же, все к той же Анне Андреевне, и обвенчаться с нею хоть в двадцать четыре часа; не то как раз конфискуют в сумасшедший дом.