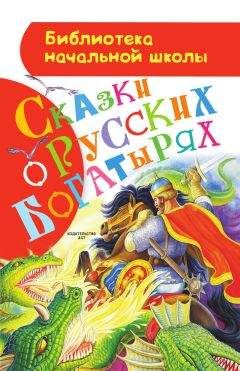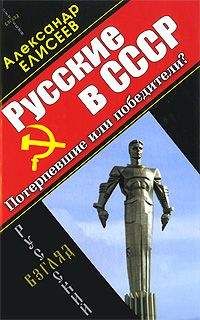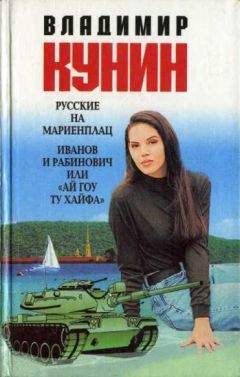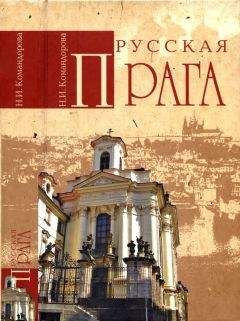Василий Авенариус - Чем был для Гоголя Пушкин
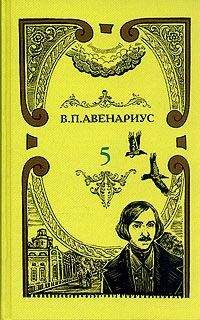
Обзор книги Василий Авенариус - Чем был для Гоголя Пушкин
I
"Гора с горой не сходится", — говорит пословица, и не совсем справедливо. Гениальные люди — те же горы среди прочей мелкоты людской — сходятся именно благодаря взаимной притягательной силе. Так сблизились два гения немецкой литературы — Гёте и Шиллер; так сошлись гордость и слава родной нашей словесности — Пушкин и Гоголь, несмотря на большую разность лет,[1] на совершенную разнородность натур: положительной и отрицательной; оба — воплощенная жизнь; но Пушкин — вся ее красота и поэзия, Гоголь — вся ее будничная, неприкрашенная правда.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
До знакомства своего с Пушкиным Гоголь не помышлял серьезно о писательской карьере, хотя, подобно большинству молодых людей, еще на школьной скамье упражнялся в стихах и в прозе. Семейная обстановка благоприятствовала развитию его таланта. Отец его, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский,[2] сын полкового писаря, дослужившись до чина коллежского асессора, поселился в своей небольшой наследственной деревеньке Яновщине (в настоящее время — Васильевка), в 35-ти верстах от Полтавы. При скромных средствах Василий Афанасьевич был большой хлебосол и неистощимыми юмористическими рассказами умел приправлять всякое блюдо. Так Яновщина его сделалась вскоре своего рода умственным центром целого уезда. Здесь-то и происходили те сказочные "Вечера на хуторе", которые гениальный сын его перенес потом в своих повестях в Диканьку (Миргородского уезда, Полтавской губ.). Сосед и добрый приятель Гоголей, дальний родственник матери нашего писателя, Трощинский, в свое время важный сановник, скучая на покое от безделья, затеял у себя домашний театр. Ставились одни малороссийские пьесы, между прочим, и собственного сочинения главного режиссера — старика Гоголя, который в то же время исполнял также первые роли. Сын, отданный в Нежинскую гимназию, приезжая на праздники домой, не только присутствовал на этих спектаклях, но принимал в них иногда и участие. По его же почину в Нежинской гимназии воспитанниками была разучена и разыграна трагедия Озерова — "Эдип в Афинах", после чего были даны еще многие другие пьесы. Унаследовав от отца комическую жилку, молодой Гоголь брал на себя обыкновенно роли старух, как, например, роль Простаковой в «Недоросле», и играл, говорят, очень типично.
Та же врожденная насмешливость заставила его взяться и за перо: первым литературным опытом его была стихотворная шутка на одного товарища, остриженного под гребенку и прозванного за то Расстригой Спиридоном. Затем следовали сатира на жителей г. Нежина: "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", и трагедия «Разбойники». Последняя была навеяна, как надо думать, драмой Шиллера того же названия: пристрастившись к легкому чтению, Гоголь не только подбил товарищей выписывать в складчину разные журналы и сам взял на себя обязанности библиотекаря, но тратил и все свои небольшие карманные деньги на покупку книг; так выписал он себе, между прочим, из Лемберга сочинения Шиллера за 40 рублей. Прослыв между товарищами «писателем», он задумал издавать и свой рукописный журнал. Назвал он его «Звездой» и ежемесячно к первому числу выпускал книжку, тщательно самим им переписанную и составленную почти исключительно из собственных его произведений. Сатирическое направление его журнала внушало товарищам его если не благоговение перед ним, то страх: все сторонились от него, потому что каждую минуту могли ожидать, что он пустит им в нос "гусара".[3] Так уже в школе он не знал братской привязанности сверстников, беззаветной юношеской дружбы, и к природным отличительным свойствам малоросса — добродушному юмору и скрытности у него прибавилась третья, отталкивающая уже черта — лицемерие. Двоедушничать, играть комедию и в действительной жизни со своими ближними доставляло ему даже тайное удовольствие.
"Я почитаюсь загадкою для всех (откровенничает он в письме к матери в 1828 году); никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренно сам смеялся над собою вместе с вами! Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных — умен, у других — глуп".
Из того рвения, с которым Гоголь-юноша отдался сочинительству в ущерб даже школьным занятиям,[4] можно было бы, пожалуй, заключить, что он понял уже свое истинное призвание, сознательно готовился к деятельности писателя. Но что это было не так, видно из собственных его слов. "Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государственная", — писал он матери в феврале 1827 года.
По мере приближения выпуска из гимназии нетерпение отличиться на служебном поприще все более в нем разгоралось.
"Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания (признавался он двоюродному брату своей матери, Петру Петровичу Косяровскому) я пламенел неугасаемою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом; быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состязания, все должности в государстве и остановился на одном — на юстиции; я видел, что здесь работы будет более всего; что здесь только я могу быть благодетелен, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни моей не утерять, не сделав блага… Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много достойных. Я не знаю, почему я проговорился теперь перед вами… что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня…"
То же самое повторяет он в своих записках, писанных 20 лет спустя:
"…В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано — в ту пору, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писательстве мне никогда не входила в ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь, и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна: она пребывала неотлучно в моей голове, впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самых ранних суждениях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от внимания других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление".
Наконец заветная мечта его осуществилась: в 1828 году он был выпущен из гимназии с правом на чин XIV класса; оставалось только приложить свои силы к делу, стать "государственным человеком".
II
Зная за собою слабость — неряшливость, Николай Васильевич еще за год до выпуска принял меры, чтобы явиться взыскательным петербуржцам в возможно привлекательном виде. Одному приятелю своему (Высоцкому), молодому чиновнику, служившему в Петербурге, он дал письменно такое поручение:
"Нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? Мерку можешь снять с тебя, потому что мы одинакового росту и плотности с тобой. А ежели ты разжирел, то можешь сказать, чтобы немного уже… Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны, выставь их цены и цену за пошитье… Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне бы очень хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами; а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется".