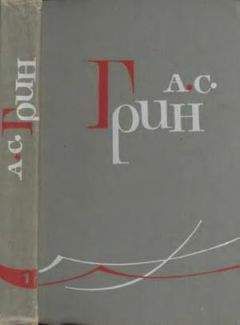Александр Грин - Том 2. Рассказы 1910–1914
– Мне грустно, – возразил он. – Ах, Бангок, вы чем-то привязали меня к себе. Город пугает меня. Снова все то же: ночлеги на улицах, поиски куска хлеба, работы, усталость, жизнь впроголодь… одиночество. Как будто не в зачет прошли мои тридцать лет, словно только что начнешь бороться за жизнь… Скучно. Вернемтесь… – тихо прибавил он, – назад, в лес. Люди страшны, человек бесчеловечен. Бесчисленные, жестокие шутники злой жизни ждут нас. Вернемтесь. Купим, или украдем ружья и, при первой возможности, уйдем от людей. В тихом одичании пройдут года, в памяти изгладятся те времена, когда мы были среди людей, боялись их, любили или ненавидели, и даже лица их забудутся нам. Мы будем всем тем, что окружает нас – травой, деревьями, цветами, зверями. В строгости мудрой природы легко почувствует себя освобожденная от людей душа, и небо благословит нас – чистое небо пустыни.
– Опять вы стали ребенком, – сказал я, тронутый его отчаянием. – Я – воин, драчун, человек упорный и петушистый. Нет. У меня руки чешутся. Отравленный воздух города возбуждает меня.
Мы перестали разговаривать, так как из тьмы выдвинулся небольшой остров. Я хотел обогнуть его и уже взялся за шест, чтобы дать плоту нужное направление, но вдруг пришла мне в голову полезная мысль.
– Ведь в городе нам ночевать негде, – сказал я, – высадимся на берег и переночуем.
Русский кивнул головой. Вскоре мы сидели перед костром, жарили на прутьях окорок обезьяны, курили и думали.
III– Смотрите, – сказал русский, – обратите внимание на воду.
Костер, для которого мы не пожалели хвороста, далеко освещая реку, пылал, как горящий амбар. Красная, оранжевого цвета, вода окружала берег, свет костра, путаясь в полосах струй, чертил в них карминным и синим золотом переливающиеся, изменчивые узоры.
– Да, красиво, – сказал я.
– Не кажется ли вам, – заговорил русский, смотря на воду, – что я скоро уйду?
– Куда? – хладнокровно, привыкнув уже к странностям своего спутника, спросил я.
Он пристально посмотрел на меня, потом, закрыв глаза, продолжал:
– Мне кажется, что я не существую. Я, может быть – всего-навсего лишь сплетение теней и света этой стелющейся перед вами призрачно-красной водяной глади.
– Что вы хотите сказать этим?
– Дайте на минуту револьвер, – медленно произнес он.
Пожав плечами, я вынул из кармана оружие и подал ему. Оставалась всего лишь одна пуля, я вспомнил об этом, далекий от всякого подозрения, случайно.
Баранов, приставив дуло к виску и продолжая сидеть, отвернулся. Я увидал его затылок, внезапно задрожавшие плечи и, оцепенев, понял, в чем дело. Произошло это так неожиданно, что я несколько раз открывал рот, прежде чем крикнул:
– Что с вами?
– Устал я… – нагибаясь к земле, сказал он. – Все пустяки.
Закрыв лицо руками, я ожидал выстрела.
– Не могу, – с бешенством крикнул Баранов, хватая меня за руки, – лучше вы… пожалуйста!
Я долго смотрел в помертвевшее его лицо, обдумывая эту слишком серьезную просьбу и… Ингер… нашел, что так действительно для него лучше.
Мы подошли к обрыву. Я вел его за руку. И здесь, нащупав дулом мягкую кожу его лба, я, отвернувшись, исполнил то, о чем просил меня спутник, уставший идти.
Выстрел показался мне оглушительным. Тело русского, согнувшись, упало в воду и, шевеля освещенными костром бледными кистями рук, скрылось в глубине струй. Но долго еще казалось мне, стоящему с опущенной головой, что из красной, переливчатой, вспыхивающей отражениями огня ряби смотрит, успокоенно улыбаясь, его лицо.
* * *Через два дня я поступил матросом на «Южный Крест» и поплыл в Шанхай.
Интересно, интересно жить, Ингер. Сколько страха и красоты! А от смеха иногда помираешь! Плакать же – стыдно.
А трубка, мой дорогой, потухла…
Загадка предвиденной смерти*
Чудовищная впечатлительность Эбергайля поднялась в последний день его жизни на такую высоту, с какой смотрит разум, стоящий на границе безумия. Утром он пробудился с явственным ощущением топора, касающегося его шеи. Мысль о топоре и отделении посредством его головы от туловища стала за последнее время постоянным спутником Эбергайля; он тщательно исследовал роковой момент, стараясь привыкнуть к нему и понять то, что в самый последний миг отойдет вместе с ним, как ощущение и мысль, – в тьму. Его представление о действии топора было ярко до осязательности, хотя длилось, обнимая процесс отсечения головы, ровно то ничтожное количество времени, в течение которого шестифунтовое лезвие, пущенное сильными руками со скоростью двух сажен в секунду, проходит вертикальное расстояние в три вершка – толщину шеи.
Подобной молниеносности точного представления, включающего холод в ногах, мучительную остановку сердца, спазму дыхательных путей, мгновение тишины, судорожный, страшный глоток в момент удара, ощущение взрыва мозга, паралич отделенных от головы, но чувствуемых еще некоторое время конечностей, – и забвение – подобного, созданного силой воображения, точного знания казни Эбергайль достиг не сразу. Постепенно, ощупью, как человек, отыскивающий в темной комнате нужный ему предмет, Эбергайль нащупывал и спрашивал мыслью все свое тело, все части и органы его и даже процессы органов, он подходил к каждому из них с терпением учителя глухонемых, подвергал их действию внутреннего света, который уже горел в нем с момента объявления приговора. Итак, он получал сначала бессвязные, противоречивые ответы, потому что воображение его не сразу достигло того напряжения, при котором возможно стать любой из частей собственного своего организма, но, упражняясь далее, он мог ясно вообразить себя в себе, чем угодно: шейным позвонком, гортанью, артерией, щитовидной железой, кожей и мускулами. Тогда он приучился подвергать себя – в каждом из этих воображаемых состояний – мысленному удару топора, и делал так до тех пор, пока из тысяч представлений не начинало, как бы эхом физического воздействия, властно завладевать его сознанием и уверенностью одно, правдивость которого он улавливал в страхе, овладевавшем им после каждого из этих немых голосов тела, обреченного смерти.
Накануне казни, встав рано, Эбергайль, как уже сказано, ясно почувствовал медленно входящий в его шею топор. Он вынул его руками, сзади, из-под затылка, со всей болью представления об этом, и, поборов, таким образом, физическую галлюцинацию, лежал несколько минут обессиленный, думая все-таки о топоре и шее. Когда он думал об этом, ему было менее страшно и беспокойно, чем в минуты бессилия овладеть упорно повторяемым представлением. Прикованный к хорошо понятому, обдуманному и близкому ужасу, благодаря точному знанию того, что представляет собой вся пыль времени сотой части секунды в момент удара, – Эбергайль, несомненно, владел ужасом, зная, в чем он. Ужас не мог быть более самого себя. Но, если подобно тиканью карманных часов, исчезающему на время для утомленного слуха, исчезала отчетливая подробность и ясность ужаса, – Эбергайль падал духом. Страх, тяжкий, как удар молнии, делал его животным. Он верил тогда в непостижимость и неожиданность ужаса, что было для него нестерпимо; он хотел знать.
Под вечер Эбергайля посетил ученый Коломб, человек пытливый и жестокий до равнодушия к самым ужасным мукам сознания. Последние часы людей, уверенных в близкой смерти, особенно интересовали его. Он увидел на фоне решетчатого окна человека в холщовом колпаке и таком же халате; незабываемое, – хотя, по внешности, обыкновенное, – лицо этого человека выражало сосредоточенность. Солнце заходило, охладевшие лучи его бросали на пол, к порогу камеры, резкую тень арестанта, тень, которую ему суждено было увидеть только еще раз – завтра утром, и то, – в случае ясной погоды.
«Его мозг в огне», – подумал Коломб.
Эбергайль действительно смотрел внутрь себя. Глаза его остановились на Коломбе и вспыхнули: он увидел еще одну шею, в которую без труда сунул топор.
– Во имя науки ответьте мне на некоторые вопросы, – кротко сказал Коломб, – это, может быть, развлечет вас.
– Развлечет, – сказал Эбергайль.
– Как вы совершили преступление?
– Два выстрела.
– Нет, – пояснил Коломб, – мне хочется знать иное. Совпало ли ваше представление о преступлении с действительностью?
– Да. Я очень долго обдумывал это. Я был уверен, что он, выходя от моей жены в увидев меня с револьвером, сделает шаг назад, раскрыв рот. Затем он должен был закрыться рукой снизу вверх. В следующий момент я выстрелю ниже его локтя два раза, зная, что скажу: «а-га!», и он попятится, затем упадет сам, нарочно притворяясь убитым, чтобы избегнуть новых выстрелов, но, падая, умрет через пять секунд. Все произошло именно так; некоторое актерство в его падении я заметил потому, что он закрыл левой рукой глаза и упал, повернувшись ко мне спиной вверх. Я прострелил ему сердце. Он не мог умереть стоя и падать, делая такой ненужный жест, как закрытие глаз. Следовательно, он был жив, падая; и знал, что делает.