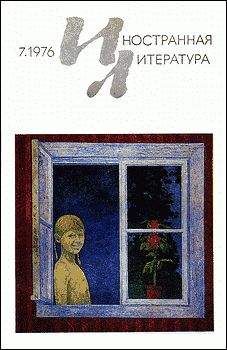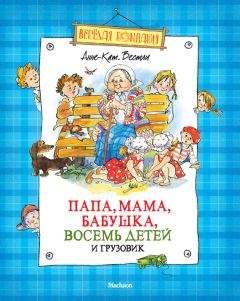Александр Фадеев - Молодая гвардия
Самое счастливое было бы сейчас очутиться вместе с Валей. Но он никогда бы не решился зайти к ней ночью да еще в присутствии матери и маленькой сестренки. Да Вали и не было в городе: она ушла в поселок Краснодон.
Вот как получилось, что этой необыкновенной, мутной ночью, когда в воздухе все время оседала какая-то мелкая-мелкая морось, Сережка Тюленин, продрогший, в одной насквозь влажной рубашке, с залубеневшими от грязи и стужи босыми ногами, постучался в окно к Ване Земнухову.
С опущенным на окно затемнением, при свете коптилки, они сидели вдвоем на кухне. Огонек потрескивал, на плите грелся большой семейный чайник, Ваня решил-таки вымыть друга горячей водой, - и Сережка, поджав босые ноги, жался к плите. Ветер порывами ударял в окно и осыпал окно мириадами росинок, и их множественный шелест и напор ветра, даже здесь, на кухне, чуть колебавший пламя коптилки, говорили друзьям, как плохо сейчас одинокому путнику в степи и как хорошо вдвоем в теплой кухоньке.
Ваня, в очках, босой, говорил своим глуховатым баском:
- Я так вот и вижу его в этой маленькой избушке, кругом воет метель, а с ним только няня Арина Родионовна... Воет метель, а няня сидит возле веретена, и веретено жужжит, а в печке потрескивает огонь. Я его очень чувствую, я сам из деревни, и мама моя, ты знаешь, тоже совсем неграмотная женщина, из деревни, как и твоя. Я, как сейчас, помню нашу избушку; я лежу на печке, лет шести, а брат Саша пришел из школы, стихи учит... А то, помню, гонят овец из стада, а я барашка оседлал и давай его лаптями понукать, а он меня сбросил.
Ваня вдруг засмущался, помолчал, потом заговорил снова:
- Конечно, у него бывала огромная радость, когда приезжал кто-нибудь из друзей... Я так и вижу, как, например, Пущин к нему приехал... Он услышал колокольчик. "Что, думает, такое? Уж не жандармы ли за ним?" А это Пущин, его друг... А то сидят они себе с няней; где-то далеко заметенная снегом деревня, без огней, ведь тогда лучину жгли... Помнишь "Буря мглою небо кроет..."? Ты, наверно, помнишь. Меня всегда волнует это место...
И Ваня, почему-то встав перед Сережкой, глуховато прочел:
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...
Сережка тихо сидел, прижимаясь к плите, выпятив свои подпухшие губы; в глазах его, обращенных на Ваню, стояло суровое и нежное выражение. На чайнике на плите запрыгала крышка, и вода весело забулькала, зашипела.
- Довольно стихов! - Ваня точно очнулся. - Раздягайся! Я, брат, тебя вымою по первому разряду, - весело сказал он. - Нет, совсем, совсем, чего стесняться! Я и мочалку припас.
Пока Сережка раздевался, Ваня снял чайник, достал таз из-под русской печи, поставил его на табуретку и положил на угол обмыленный кусок простого, что употребляют для стирки, дурно пахнущего мыла.
- У нас на селе в Тамбовской области был один старик. Он, понимаешь, служил всю жизнь банщиком в Москве, у купца Сандунова, - говорил Ваня, сидя верхом на табурете, расставив длинные босые ступни. - Ты знаешь, что это значит - банщиком? Вот, скажем, пришел ты в баню. Скажем, ты барин или просто ленишься мыться, нанимаешь банщика, он тебя и трет, этакий усатый черт, - понимаешь? Он, этот старик, говорил, что вымыл за свою жизнь не менее полутора миллионов человек. А что ты думаешь? Он этим гордился, столько людей сделать чистыми! Да ведь, знаешь, человеческая натура, - через неделю снова грязный!
Сережка, усмехаясь, скинул последнюю одежду, развел в тазу воду погорячей и с наслаждением сунул в таз жесткую курчавую голову.
- Гардероб у тебя на зависть, - сказал Ваня, развешивая его влажную одежду над плитой, - похлеще еще, чем у меня... А ты, я вижу, порядок понимаешь. Вот слей сюда в поганое ведро, и еще разок, да не бойся брызгать - подотру.
Вдруг в лице его появилась грубоватая и в то же время покорная усмешка; он еще больше ссутулился и странно свесил узкие кисти рук так, что они вдруг стали казаться тяжелыми, набрякшими, и сказал, еще больше сгустив свой басок:
- Повернитесь, ваше степенство, по спинке пройдусь...
Сережка молча намылил мочалку, искоса взглянул на приятеля и фыркнул. Он подал мочалку Ване и уперся руками в табуретку, подставив Ване сильно загорелую, худенькую и все же мускулистую спину с выступающими позвонками.
Ваня, плохо видя, неумело стал тереть ему спину, а Сережка сказал ворчливо, с неожиданными барскими интонациями:
- Ты что ж это, братец ты мой? Ослаб? Или ленишься? Я недоволен тобой, братец ты мой...
- А харч каков? Сами посудите, ваше степенство! - очень серьезно, виновато и басисто отозвался Ваня.
В это время дверь на кухне отворилась, и Ваня, в роговых очках и с засученными рукавами, и Сережка, голый, с намыленной спиной, обернувшись, увидели стоящего в дверях отца Вани в нижней рубашке и в сподниках. Он стоял, высокий, худой, опустив тяжелые руки, такие самые, какие Ваня только что пытался придать себе, и смотрел на ребят сильно белесыми, до мучительности, глазами. Так он постоял некоторое время, ничего не сказал, повернулся и вышел, притворив за собой дверь. Слышно было, как он прошаркал ступнями по передней в горницу.
- Гроза миновала, - спокойно сказал Ваня. Однако он тер спину Сережке уже без прежнего энтузиазма. - На чаишко бы с вас, ваше степенство!
- Бог подаст, - ответил Сережка, не вполне уверенный, говорят ли это банщикам, и вздохнул.
- Да... Не знаю, как у тебя, а будут у нас трудности с нашими батьками да матерями, - серьезно сказал Ваня, когда Сережка, чистенький, порозовевший, причесанный, снова сидел за столиком у плиты.
Но Сережка не боялся трудностей с родителями... Он рассеянно взглянул на Ваню.
- Не можешь дать мне клочок бумажки и карандаш? Я сейчас уйду. Мне надо кое-что записать, - сказал он.
И вот что он написал, пока близорукий Ваня делал вид, будто ему что-то еще нужно прибрать на кухне:
"Валя, я никогда не думал, что буду так переживать, что ты ушла одна. Думаю все время: что, что с тобой? Давай не разлучаться никогда, все делать вместе. Валя, если я погибну, прошу об одном: приди на мою могилу и помяни меня незлым, тихим словом".
Своими босыми ногами он снова проделает весь окружный путь "шанхайчиками", по балкам и выбоинам, под этими стонущими порывами ветра и леденящей моросью - снова в парк, на Деревянную улицу, чтобы успеть на самом рассвете вручить эту записку Валиной сестренке Люсе.
Глава сорок вторая
Мысль о том: "А как же мама?" - отравляла Вале всю прелесть похода в то раннее пасмурное утро, когда она шла по степи вместе с Натальей Алексеевной, прытко и деловито перебиравшей своими пухленькими ножками в спортивных тапочках по влажной глянцевитой дороге.
Первое самостоятельное задание, сопряженное с личной опасностью, но мама, мама!.. Как она посмотрела на дочь, когда Валя с независимым выражением сказала, что просто-напросто она уходит на несколько дней в гости к Наталье Алексеевне! Каким, должно быть, жестоким холодом отозвался в сердце матери этот эгоизм дочери - теперь, когда нет отца, когда мать так одинока!.. А если мама уже что-нибудь подозревает?..
- Тося Елисеенко, с которой я вас сведу, учительница, она соседка моей матери, точнее - Тося и ее мама живут вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире. Она - девушка характера независимого и сильного и много старше вас, и я откровенно скажу, она будет смущена тем, что я приведу к ней вместо бородатого подпольщика хорошенькую девочку, - говорила Наталья Алексеевна, как всегда, заботясь о точном смысле своих слов и совершенно не заботясь о том, какое впечатление они производят на собеседника. - Я хорошо знаю Сережу, как вполне серьезного мальчика, я верю ему в известном смысле больше, чем себе. Если Сережа мне сказал, что вы от районной организации, это так и есть. И я хочу вам помочь. Если Тося будет с вами недостаточно откровенна, вы обратитесь к Коле Сумскому, - я лично убеждена, что он у них самый главный, по тому, как Тося относится к нему. Они, правда, дают понять Тосиной и моей маме, будто у них отношения любовные, но я, хотя и не сумела еще сама, из-за перегруженности, организовать свою личную жизнь, я прекрасно разбираюсь в делах молодежи. И я знаю, что Коля Сумской влюблен в Лиду Андросову, очень кокетливую девушку, - неодобрительно сказала Наталья Алексеевна, - но тоже несомненного члена их организации, - добавила она уже из чистого чувства справедливости. - Если вам потребуется, чтобы Коля Сумской лично связался с районной организацией, я воспользуюсь своим правом врача районной биржи, дам ему двухдневный невыход на работу по болезни, он работает на какой-то там шахтенке, - говоря точно, крутит вороток.
- И немцы верят вашим бумажкам? - спросила Валя.
- Немцы! - воскликнула Наталья Алексеевна. - Они не только верят, они подчиняются любой бумажке, если она исходит от официального лица... Администрация на этой шахтенке своя, русская. Правда, при директоре, как и везде, есть один сержант из технической команды, какой-то ефрейтор, барбос барбосом... Мы, русские, для них настолько на одно лицо, что они никогда не знают, кто вышел на работу, а кто нет.