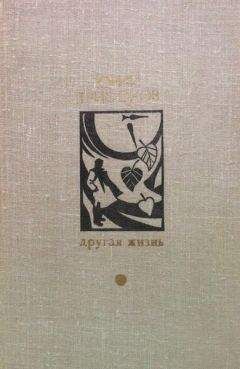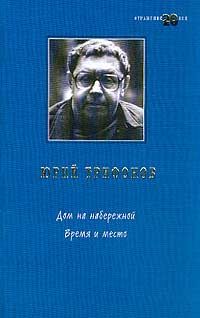Юрий Трифонов - Нетерпение
единственным судьей в деле этой борьбы между социально-революционной партией и правительством может быть лишь весь русский народ через непосредственное голосование или, что ближе, в лице своих законных представителей в учредительном собрании, правильно избранном;
и, в-третьих, так как эта форма суда (учредительное собрание) в отношении нас лично неосуществима, так как суд присяжных в значительной степени представляет собою общественную совесть и не связан в действиях своих присягой на верную службу одной из заинтересованных в деле сторон;
на основании вышеизложенного я заявляю о неподсудности нашего дела Особому присутствию правительствующего сената и требую суда присяжных в глубокой уверенности, что суд общественной совести не только вынесет нам оправдательный приговор, как Вере Засулич, но и выразит нам признательность отечества за деятельность особенно полезную. 1881 г. 25 марта. Андрей Желябов. Петропавловск. крепость".
Было ясно, что судилище пойдет так, как его наметили власти, но важно ставить им препятствия. Заявление будут обсуждать, читать вслух, может быть оно попадет в печать. Ночью не спал, мучило нетерпение; скорее бы свет, утро! Начало суда назначалось на одиннадцать. Ходил по камере и думал: как говорить? От защитника отказался. Будет защищать себя сам. Впрочем, не себя! В том-то и суть, потому-то и отказался, что защищать не себя, а - дело. Какой же защитник сможет лучше него? В середине ночи зашелестел замок и тихо вошел с фонарем тот самый жандармский офицер, который привел его сюда из Дома предварительного заключения. Андрей знал фамилию: Соколов. Приземистый, коренастый, с каким-то поразительно застылым, как будто заспиртованным лицом. Таких глаз, как у этого тюремщика, Андрей у обыкновенных людей не видел: глаза были самой неживой, самой неподвижной частью лица.
Наставив на Андрея свои выпуклые, нечеловеческой ледяной светлоты буркалы, Соколов тихо сказал:
- Бегать по камере об этот час нельзя. Лягте и отдыхайте.
- Я не бегаю, я хожу. Имею на это право.
- Нет, бегаете. Ишо следи за вами: либо голову расшибете с наскоку.
- Не дождетесь. Еще чего. Голова мне завтра понадобится.
Тюремщик не уходил. Андрей глядел в его глаза: нет, жизнь в них тлела, но какая-то своя, ужасная, может быть, жизнь земноводных или тритонов. Подумал, усмехаясь: а может, это посланец оттуда? И там все такие, с глазами тритонов?
- Лягте и не бежите, - сказал Соколов. - Иначе переведу в другую камеру, там не разбегаешься.
Тюремщик вышел так же бесшумно, как вошел. Прошелестел замок. Шторка над глазком поднялась, и Андрей опять увидел выпуклое, ледяное око, наблюдавшее пристально. Вспомнились слова Жоржа: "Остановить на себе зрачок мира - разве это не значит победить?" Вот он, зрачок, который остановился и смотрит. Пока шторка не опустится. Андрей сел на койку. Ходить не хотелось. Он подумал о том, что, когда жизни остается мало, возникает страстная жажда, хочется жить: но в прошлом. И он стал вспоминать то, чего не вспоминал годами: каменный дом гимназии в Керчи, лица, разговоры, голоса, пыльную акацию, закатное багровое небо.
Было солнечно, сверкал весенний день, встретились в большом коридоре, и он успел тронуть Соню за руку, но жандарм сильным ударом отбросил его руку назад. Он увидал, что Соня очень худа. Все были худы, желтолицы, с бескровными губами. Спокойней всех выглядел Кибальчич. Он улыбнулся Андрею, и, когда сгрудились на несколько секунд перед дверьми в зал заседания и очутились рядом, сказал быстро:
- Я работал над проектом летательного аппарата.
- Коля, ты гений! - Андрей даже засмеялся в изумлении. - В камере?
- Да, это мои старые мысли, но все не было времени. А тут - совершенно ничто не мешало...
Кибальчича потянули вперед. Стали входить, выстроившись цепочкой: между каждым из них шел жандарм. Крепко пахло начищенными сапогами. Привели и посадили так: первого Рысакова, рядом с ним Михайлова, за ним Гесю, потом Колю, Соню и его последним. Но удачей было то, что с Соней оказались рядом. Когда сели, она наклонилась и шепнула!
- Мое единственное было желание: чтоб мы - рядом... Как хорошо, правда?
- Хорошо, - он кивнул.
Как будто кто-то сильной рукой сжал сердце: он увидел, как Соня улыбнулась. Первоприсутствующий сенатор Фукс и члены суда, аксельбанты, мундиры, ленты, фраки, ордена, золотое шитье, седые головы, скрип, шарканье, откашливание по случаю студеного ясного утра: вошли почти одновременно с обвиняемыми из другого входа и стали рассаживаться. Если б отец вдруг очутился здесь и увидел эту гору мундирного золота, эти важные лица в бакенбардах, и то, что они все смотрели на него, Андрюшку Желябова! Не было никакого страха, хотя все это было приготовление к смерти. Люди, сидевшие перед ним, были палачами. Они желали скорее убить его и товарищей. Ради скорой их смерти тщательно наряжались утром, причесывались, долго смотрели на себя в зеркало, плотно завтракали и радовались тому, что их смерть наступит не сразу, а через четыре, пять дней, так что удовольствие будет длиться. Но он думал о них, об их вурдалачьем любопытстве без всякой злобы. И смерть его не пугала. Материя вечна! Молекулы, составляющие его существо, просто перейдут в другое состояние, вот и все. Но не исчезнут. Исчезновения быть не может. Первоприсутствующий сенатор Фукс о чем-то просил обер-секретаря, тот стал читать какое-то предложение министра юстиции - ага, формальность, почему дело отнесено к ведению Особого присутствия сената. Простое убивание не годится, все должно сопровождаться бумагами.
- Я получил документ...
- Прежде объясните суду ваше звание, имя и фамилию, - перебил Фукс.
- Крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, села Николаевки Андрей Иванов Желябов... - Голос звучал хорошо. Вообще было полное спокойствие. Вокруг совершеннейшая глубокая тишина, и лица в зале глядели на него с пожирающим интересом. Нет, никакой злобы к ним. Вдруг: начало июня, большой зал гимназии, директор, учителя, старичок протоиерей Бершадский, толстый Кондопуло, и в таком же прочном молчании все смотрели на него и ждали. И тогда после бессонных ночей, возбуждения было такое же внезапное спокойствие. Все повторяется, все уже было, испытано, только тогда речь шла о громадной неизведанности, о медали, праве на чин четырнадцатого класса, а теперь о хорошо известном: о смерти.
- Я 25 числа подал в Особое присутствие из крепости заявление о неподсудности моего дела Особому присутствию сената, как суду коронному...
Фукс кивал.
- Сейчас я разрешу ваши сомнения. Господин обер-секретарь, прочтите определение присутствия, состоявшегося в распорядительном заседании сегодня.
Обер-секретарь прочитал нечто громоздкое, составленное из пунктов, статей, параграфов и нумеров, из чего следовало: заявление Желябова оставить без последствий, о чем ему и объявить.
- Я этим объяснением удовлетворен.
Да, удовлетворен, ибо сказал вслух о главном, и это занесено в протокол, слышали в зале, где не только сановники, но и много корреспондентов газет. Есть даже художники, вон один чиркает в альбоме. Первое маленькое сражение выиграно!
- Теперь приглашаю вас ответить на мои вопросы. - Фукс тоже понял, что несколько потеснен, отчего выражение его лица сделалось еще более непреклонным, а голос бесстрастным. Выглядит стариком, хотя не стар, лет сорока пяти: лысина, пенсне, сивая борода. Директор гимназии господин Падрен де Карнэ тоже любил напускать на себя вид бесстрастного ревнителя справедливости: хотя ты сын крестьянина, а он дворянин, я осуждаю его, а не тебя, но и ты понесешь соответствующее наказание. - Сколько вам лет?
- Тридцать.
- Веры православной?
- Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю... Я признаю, что вера без дела мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера.
В зале задвигались, заскрипели, пробежал ропот. Кажется, это значило: возмущение. Фукс продолжая с той же казенной бесстрастностью:
- Где проживали в последнее время и чем занимались?
Жил там-то, служил делу освобождения народа. Единственное занятие, которому много лет он служит всем своим существом. Опять задвигались, шум: не понравилось! Господа, надо привыкать, так будет все три дня. Нравиться здесь вам ничего не должно. Затем заговорил прокурор Муравьев: из той породы молодых людей, кого зовут осанистыми и представительными. Требовал, чтоб читались показания Гольденберга. Андрей же потребовал, чтоб вызвали в качестве свидетелей Семена и Колю Колодкевича, дело обреченное, не вызовут, но все равно, уж хорошо то, что удалились совещаться. Соня шепотом рассказала: было свидание с мамой, Лорис, оказывается, вызывал ее, просил воздействовать, но мать, умница, сказала, что давно уже потеряла на дочь влияние. А что на воле? Что в городе? Мать не знает. Она далека от всего этого. И разговаривать было невозможно: жандарм сидел впритык, колени в колени, и слушал. Вот, попросила маму прислать для суда это платье и белый воротничок.