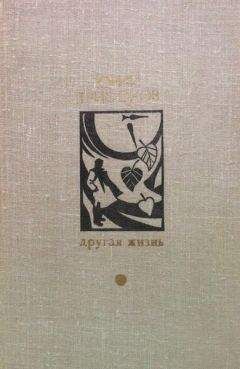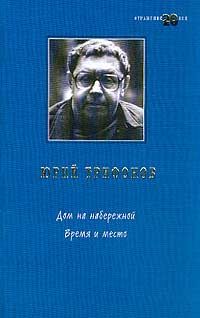Юрий Трифонов - Нетерпение

Обзор книги Юрий Трифонов - Нетерпение
Трифонов Юрий
Нетерпение
ЮРИЙ ТРИФОНОВ
НЕТЕРПЕНИЕ
Повесть об Андрее Желябове
ГЛАВА ПЕРВАЯ
К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна. Спорили лишь о том: какова болезнь и чем ее лечить? Категорические советы, пророчества и проклятья раздавались в стране и за границей, на полутайных собраниях, в многошумных газетах, модных журналах, в кинжальных подпольных листках. Одни находили причину темной российской хвори в оскудении национального духа, другие - в ослаблении державной власти, третьи, наоборот, в чрезмерном ее усилении, одни видели заразу в домашних ворах, иные в поляках, третьи в бироновщине, от которой Россия за сто лет не могла отделаться, а великий писатель полагал, что виноват маленький тарантул, piccola bestia, то бишь Биконсфильд, забежавший в Европу. Были и такие, что требовали до конца разрушить этот поганый строй, а что делать дальше, будет видно. Да что же происходило? Вроде бы все шло чередом: росли города, бурно раскидывались во все стороны железные дороги, дельцы нагребали состояния, крестьяне бунтовали, помещики пили чай на верандах, писатели выпускали романы, и все же с этой страной творилось неладное, какая-то язва точила ее. Всю Россию томило разочарование. Разочарованы были в реформах, разочарованы в балканской войне, власть разочаровалась в своих силах, народолюбцы разочаровались в народе. Появилось много людей, уставших жить. "Русская земля как будто потеряла силу держать людей!" - говорил с горечью писатель, что стращал всех тарантулом.
Понять, что происходит, современникам не удавалось: не замечая причин, они со страхом и изумлением наблюдали следствия. Лишь десятилетия спустя эта пора душевной смуты, разочарования и всеобщего недовольства будет определена как назревание революционной ситуации. А начиналось все это порядочно давно. Еще в те, наверное, времена, когда никому и в голову не могло прийти, что что-либо начинается. В 1866 году (едва ли тут было начало!) в царя, освободителя и реформатора, стрелял злоумышленник...
Спустя двенадцать лет зимою, в Одессе, молодой человек по имени Андрей Желябов должен был принять тяжелое решение: расстаться с женой, с которой прожил шесть лет и которая, он знал это, очень сильно его любила. Но у них был сын, и о нем следовало думать. Жена была еще молодая женщина, певица, музыкантша, нравилась мужчинам, отец влиятельный господин, сахарозаводчик, гласный городской думы, который другому зятю устроил бы отличную жизнь, и судьба жены могла бы перемениться. А какая жизнь с ним? Полунищенство в Одессе, два стула и кровать, крестьянская воловья работа в Николаевке, от зари до зари (однажды видел, как, лежа на меже, плакала), тревоги, неустройства, непутевые друзья без гроша в кармане, какие-то подозрительные женщины, развязные, с наглым взглядом, с папиросками, разговаривающие с нею свысока, ночью громыханье сапог, обыски, уходы, уводы, исчезновения, сначала на четыре месяца, потом на семь месяцев, унижение перед родителями, чтобы взять на поруки... Да зачем же все это терпеть? Конца не видно. Впрочем, виден. И даже - явственно.
Вот уже никого из старых друзей нет в Одессе: Волховский в Сибири, Петро Макаревич, Сережка Жебунев и Соломон там же, в Тобольской губернии, Сережкин брат Владимир под надзором на Харьковщине, а Никола, третий из Жебуневых, удрал в Париж. И Аня где-то там, далеко, в Европе, а Иван Ковальский казнен в августе.
Поэтому, если рассуждать спокойно и здраво, руководствуясь логикой, а не чувством...
- Зачем ты пришел сюда?
- Мы должны расстаться.
- Мы и так расстались. Это все знают. Летом ты сбежал от нас к Митьке, прекрасно там жил на бахче, торговал арбузами, мне все известно, тебя видели на базаре в Брацлаве... Зачем ты нас мучаешь? Что тебе нужно?
Из соседней комнаты, тихо приподняв занавеску, вышел маленький мальчик. Он был очень бледен, с круглой обритой по-казацкому головкой. Остановился и смотрел с каким-то робким и страстным вниманием на отца. Мать протянула руку, как бы зовя мальчика к себе и одновременно загораживая ему дорогу к отцу.
- Что мне нужно? Во-первых, вот что... - Он смотрел на мальчика. - Взять то, что я оставил летом в мешке. Где-то там, возле окна, под полом.
- Ничего нет, я не хотела рисковать и все выбросила. Еще что?
- Еще то, что я уже сказал: расстаться.
Он произнес это твердо, глядя на мальчика. Только твердость была спасением. Потому что все уже кончено, надо немедленно и навсегда. И мальчик, который еще колебался, не знал, подойти ему к отцу или нет, сделал шаг к матери, она обняла его и прижала загорелой красивой рукой. Другой рукой закрыла лицо.
- Андрейка, ступай в комнату, - сказала мать.
Он ощупывал в кармане железную немецкую игрушку, бородатого рождественского гнома, купленного по дороге сюда. Сжал в кулаке, сломал. Они должны его возненавидеть. Мальчик вышел, она сказала сломанным голосом:
- Тебе нужно непременно добить... до конца...
- Ты ничего не понимаешь! У нас выхода нет.
Она плакала. Он терпеливо ждал, сидя на стуле у окна. Смотрел на улицу. Нужна была ее ненависть, безоглядная, полная - тогда, может быть, они спасутся. Ольга поглядела с внезапной улыбкой.
- Я знаю, о чем ты думаешь! Понимаю все твои благородные хитрости. Но ты себя не обманывай. Дело простое! Ты меня никогда не любил! - Ждала возражений, хоть каких-то, из вежливости, чтобы немедленно обличить. Это было неправдой. Но он промолчал.
Вдруг вспомнилась та осень в Городище, шесть лет назад, когда он приехал в имение будущего тестя, еще ни о чем не догадываясь, еще полный ожесточения от неудачи с университетом - одесские власти были согласны его восстановить и даже ходатайствовали, но министерская сволочь в Петербурге ни за что не соглашалась, и пришлось терять второй год - и там, в Городище, обе ученицы, Оля и Тася, горячо ему сочувствовали и жалели его, и первые несколько дней он только и делал, что рассказывал всю эпопею в подробностях. Сейчас, вспоминая то, как он рассказывал, да и саму эту историю с профессором Богишичем, он понимал, что тщеславился и петушился сверх меры, хотя гордиться было нечем. Подумаешь, событие! Профессор, старый болван, сделал замечание Абрашке Беру (Абрашка задремал на лекции): "Вы что, в кабаке? Не хватает еще подушек! Вон!" Абрашка пытался что-то пищать в свое оправдание, но Богишич заорал: "Молчать! Вон!", топал ногами, как генерал на денщика, ну и, разумеется, оставить такое скотство без последствий было нельзя. Сначала бойкот, потом ждали объяснений, ректор пытался замять, Богишич уклонялся, но министр, граф Толстой, требовал грозных кар. Смешно все это. Во-первых, вздор: какие в кабаке подушки? Полуграмотный серб, по-русски-то говорить не научился, но такие слова, как "Молчать!" и "Вон!", уже знал прекрасно.
Тася дразнила: "А, так и надо! Не вступайтесь за какого-то Бера!" Он вступался не за Бера, а за принцип. Студент есть человек со своим кодексом чести, и никому не должно быть дозволено топать на него ногами. Ольга, старшая сестра, слушала с молчаливым восторгом. И от восторга - даже пятна на щеках, под смуглым румянцем. "Признайтесь, Андрей, вы были руководителем? Громче всех кричали "Долой!"" Ничего подобного, он как раз написал в письменном объяснении - начальство добивалось узнать, кто коновод - коноводом не был, потому что их нет между студентами. Тася хохотала: "И нам боится сказать! Почему вы нам-то не скажете? Из университета только двоих исключили, вас и Белкина: значит, вы и есть коновод!"
До приезда в Городище было два учительских опыта: в Одессе учил грамоте еврейских девочек, раздражался, не хватало терпения, и в лето накануне городищенского жил в Симбирской губернии, в имении Горки, учил мальчишек Мусиных-Пушкиных. Там была трудовая жизнь, вставали с петухами, купались в холодной воде, работали в поле, косили, сгребали сено, и при этом: литература, история, Колумб, Галилей, Петр Великий, собиранье в окрестностях преданий о Пугачеве. Хозяин имения, дядя мальчишек, старик не злой, но убежденный крепостник, вечно задирался: "А почему полагаете, молодой человек, что история движется революциями? Откуда сие известно, кто доказал?" Споры бывали изрядные. Старик сердился, называл Андрея "висельником", "Сен-Жюстом".
В Городище все было иначе. Отец Ольги и Таси страдал почти теми же муками, что и Андрей, хотя излечить их надеялся по-своему. Все разговоры за обедом вертелись вокруг гласности, земства. А после занятий - в рощу, к реке или к тайному месту, в карьер, где ломали камень лабрадор. Там было темно, жутковато. Тасе вскоре наскучило. Они ходили вдвоем. Среди каменных стен Ольгин голос звучал сказочно низко, она пела украинские, из опер, и удивительно хорошо один романс: "Не уходи, побудь со мною!". Глаза северянок, блеклые, не видны ночью, но украинские, черные - светятся. И в них было сострадание, постоянное, с первого дня. А за что было его жалеть? Он здоров, могуч, верил в себя, ничего не боялся: на набережной поколотил однажды сразу троих моряков, пьяных греков. Но вот тогда - в первый год их жизни - она его непрерывно жалела. У нее это слилось: жалость, гордость им - тоже непонятная и какая-то совершенно слепая, безответная преданность. Сразу была готова бросить дом, отца, все самое дорогое, фортепьяно, ноты, сестру, и - куда угодно, за ним. Тесть, умный хохол Яхненко, сказал однажды не то смеясь, не то со скрытой родительской горечью: "Ну и любишь ты своего карбонара!" Это и было и есть самое тяжкое - потому что истинное.