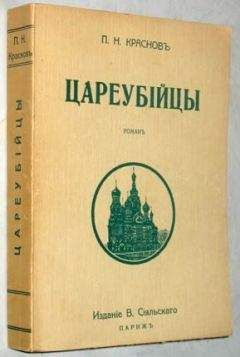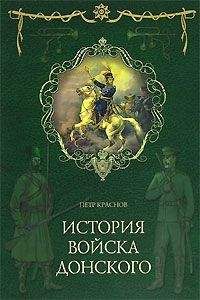Петр Краснов - Largo
Валентина Петровна шла, любуясь Петербургом, и с тоскою ощущая свое одиночество. Одна в этом городе. И сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня. Прогулка — и длинный день, который не знаешь, куда девать.
У Екатерининского канала увидала магазин фортепьян и подумала: — "давать уроки музыки. Играть на вечерах… В кинематографе… Стать тапершей… Зачем?.. В монастырь?.. Ах, пожалуйста, куда угодно, только подальше отсюда".
Низкие кустарники сквера у Казанского собора были покрыты нежною молодою зеленью. Садовники из голубой парниковой лобеллии и желтых листиков выкладывали на клумбе хитрый узор. Дети бегали по дорожкам, гоняя обруч. Слышался смех. Шла иная жизнь. Наверно там играли в пятнашки.
Валентина Петровна остановилась. Ей некуда торопиться. Вот тот полненький, как Портос, когда ему было десять лет, а этот худышка — совсем Долле. И, верно, считают, как мы. Считал всегда в их играх Петрик. Он был самый честный. Она стояла и ей казалось, что она слышит голос маленького Петрика: — "раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет: — пиф-паф-ой-ой-ой, умирает зайчик мой" — и Петрик толкал ее в грудь, отставляя в сторону — не она будет "пятнать".
Валентина Петровна вздохнула: — "Смешной какой Петрик… Предложение делает… Зовет к себе… Умирает зайчик мой… Когда это было?… Восемнадцать лет тому назад… Целая жизнь!.. И где она? Впереди? или уже позади?"
В магазине Буре, где висели громадные за окном часы, приказчик, красивый французский швейцарец, узнал ее. Он отдал часы на осмотр в мастерскую рядом и предложил Валентине Петровне стул. Она села. Перед нею в витрине за стеклом лежали тяжелые серебряные часы с крышкой и с серебряными массивными цепочками, вытянутыми вдоль них.
Их ровный блеск на фоне черного сукна слепил Валентину Петровну.
— В этом году первый раз батюшка ваш не брали у нас часов. А то каждый год, когда десять, когда и двадцать призовых часов брали.
— Да, — сказала Валентина Петровна, ни о чем не думая и внимательнее посмотрела на лежавшие перед нею часики.
Приказчик, чтобы развлечь покупательницу, вынул часы и стал их показывать.
— Извольте посмотреть какая гравировка на крышках. Вот этот, где драгун прыгает через забор — это за скачку. Внутри на циферблате можно наклеить портрет Государя Императора, или Наследника, есть портреты Императрицы и Великих Княжен для Шефских полков… С тонкой цепочкой на 19 рублей, с толстой, для лучших призов на 23.
Валентина Петровна рукою в перчатке играла массивною цепью.
— Красивые часы. Не модные.
— У солдат они всегда в моде. Посмотрите — эти, с казаками, за джигитовку, эти с книгами и компасами, циркулями и линейками за отличное окончание учебной команды.
— А эти?
— Это — пограничной страже — за постовую службу.
— Да?..
Ее часы были готовы. Там только зубчик соскочил. Приказчик надел ей цепочку браслета на руку.
— Что я вам должна?
— Ничего-с… такой пустяк.
Она встала.
— Что, можно… часов десять по почте послать?
Она спросила, ни о чем еще не думая. Просто — так… Чтобы что-нибудь сказать.
— Куда угодно… В ящик положим, холстом обошьем… Только адрес дайте.
— Я сама пошлю… Вы только запакуйте.
— Слушаюсь. Какие прикажете? В какую цену?
— Лучшие… По двадцать три рубля… Вот таких… "За скачку" — трое… "За отличную стрельбу"…
— Цепочку с ружьями?
— Да… с ружьями… двое… "За постовую службу"- трое… и еще…
— "За разведку", может быть?…
— Да, "За разведку"… двое…. Всего десять…. Вы пришлите мне… Совсем готовые… только чтобы адрес написать.
— Через час у вас и будут.
Она вышла из магазина. Пошла прямо домой. Как-то легче ей дышалось… Точно будто и дело сделала. На двести тридцать рублей купила часов для пограничников Петрика. Откупилась от него…
XXXVIII
После завтрака к Валентине Петровне позвонили. Она так отвыкла от посетителей, что даже взволновалась. Но это принесли часы. Она заплатила по счету, села в гостиной за столик и тщательно по холсту написала адрес Петрика.
"Пусть порадуется… От госпожи нашей начальницы… от королевны Захолустного Штаба королевский подарок".
Она позвала Таню.
— Снесите, Таня, эту посылочку на почту, — сказала Валентина Петровна.
Таня хотела взять пакет, но в это время опять позвонили.
— Что это сегодня, — сказала Валентина Петровна. — Если это не Обри и не Долле — не принимайте. Я никого не хочу видеть.
Через несколько секунд Таня со смущенным лицом вернулась из прихожей, неся на китайском черного лака подносике визитную карточку. Валентина Петровна взяла ее в руки.
"Барон Вильгельм Федорович фон Кронунгсхаузен", — прочла она.
Глаза цвета морской воды поднялись вопросительно на Таню. В золотых глазах Тани прыгал радостный смех.
— Петра Сергеевича полка командир-с, — шепотом сказала она. — Вот такой, и она вытянула лицо и округлила правый глаз, будто в нем был монокль.
— Командир холостого полка, — тихо сказала Валентина Петровна, вставая со стула. — Проси… Что ему надо от меня?
Высокий, тощий, с юношеской в сорок с лишним лет талией, очень прямой, в длинных с острою складкою серо-синих чакчирах, в драгунском мундире, с этишкетом, выпущенным из-под погона, с Владимирским крестом в петлице, с сухим бритым, в морщинах не то английского жокея, не то немецкого пастора лицом, с моноклем, с редкими рыже-седыми волосами, аккуратно расчесанными на пробор через весь затылок до желтого воротника, барон, изобразив на лице своем некоторое подобие улыбки, склонился к Валентине Петровне, целуя ее руку и по тому, как барон взял ее и как целовал, она почувствовала, что он увидал, прочувствовал и оценил всю красоту ее руки.
— Пожалуйста, барон, — смущаясь, сказала Валентина Петровна. Она хотела сказать "чему обязана Вашим посещением?", но ей это показалось нелюбезным, и она замялась. Барон стоял в трех шагах от нее и рассматривал ее через монокль. Так вероятно он разглядывал ремонтных лошадей, на глаз оценивая толщину кости под коленом, ширину груди, спину, круп. Ей стало неловко под его взглядом и она покраснела. Покраснев, стала досадовать на себя.
— Садитесь, барон… Прошу.
Барон продолжал стоять.
— S-so!.. — с полным удовлетворением сказал барон. — S-sо!.. Тот-то кто любит свой польк — тот любит своих офицеров! — торжественно начал он, все не садясь. — Я ошень любиль ротмистра Ранцева, Вы его тоже любите?
— Да… мы друзья детства… Он очень хороший человек.
— Мало сказать — хороший шеловек. Он хороший офицер… Он хочет женить на вас. Тот-то, кто собою вам жертвоваль — тот-то достоин вашей любви.
— Вот как, — чуть улыбаясь, сказала Валентина Петровна, — вы, командир холостого полка, говорите о женитьбе вашего офицера?
— Тот-то, кто ушель в Пограничную стражу, — тот-то не в холостом полку. Тот-то может жениться. Тот-то должен жениться.
— Так… я, признаться, барон, ничего не понимаю, — сказала Валентина Петровна.
— Я приехаль… сваха… сватом к вам. Он ошень просиль…. Я знай… Как ваша матушка, я ее знай, в Захолустном Штабе помогайт вашему папе, так вы помогайт ротмистру. Тот-то — достоин.
— Я в этом, барон, не сомневаюсь, что Петр Сергеевич достоин самой прекрасной двушки, как невесты… Но я… Я-то чувствую себя совсем не достойной его.
— Глюп-сти! — решительно сказал барон. — Я это понимай, — я все хорошо знай. Он мне все, все, все писаль… Как отец… Я ему биль и есть отец, и я прошу нэ отказывать.
— Не знаю, право… Вы меня застаете врасплох. Я, откровенно говоря, никогда не думала об этом.
— Есть вешши, сударыня, где думать нельзя. Надо — сердце… Надо — раз-два и готово… Это — атака и женитьба… Если подумаль: — "я атакую" — нэт атаки — сердце не выдержаль…. Если подумаль: — "я женюсь", стал думать: "зашэм я женюсь, буду-ли я счастлив" — тот не женится. Это, как Гоголь, — вы, наверно, знаете, смеялись… Тот-то, кто женится, тот телеграфирует два слова: — "да… еду"… вот и все. И вы это сделаете. Тот-то, кто любит, — тот это делает.
Валентина Петровна стояла перед бароном, опустив голову. Она подняла ее и вдруг увидала себя в зеркале. Весенняя, утренняя прогулка оживила ее щеки, глаза сверкали в черном обводе густых, загнутых вверх ресниц. Траур делал ее еще моложе, тоньше и стройнее. На мгновение мелькнула мысль о монастыре — и стало так жаль себя… Чугунные кони на Аничковом мосту встали перед глазами. И не только кони… Даль звала. Все эти фанзы и манзы, простор до фиолетовых гор казались чудесными — и с Петриком не страшными. В ушах звучала Бородинская симфония — "В степях Азии" — и точно пела, переливаясь, как горный ручей странная, меланхоличная, медлительная жилейка и ей вторило побрякивание колокольцев тихо бредущего по пустыне верблюжьего каравана. Безкрайние горизонты, золотые восходы, румяные закаты раскрывались перед нею и жизнь была не в прошлом, а в будущем — и прекрасным казалось продолжить ее рука об руку с Петриком, — кому все и всегда во всех играх верили. И в жизненной игре она ему поверит.