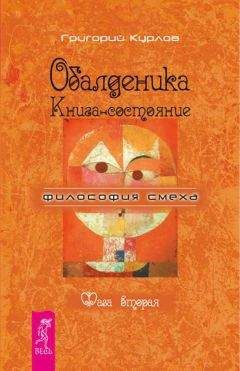Николай Лесков - Том 8
— Что же такое он открыл?
— А, друг мой, — это благословенная, это великая вещь! Я теперь могу молиться так, как до этой поры никогда не молился. Сомненья больше нет!
— Это большая радость.
— Да, это радость. Впрочем, я всегда думал и подозревал, что здесь нечто должно быть не так, что здесь что-то должно быть иначе. Я говорю о «Молитве господней».
— Я ничего не понимаю.
— Но ведь вы ее знаете?
— «Отче наш»-то? — Ну, конечно, знаю.
— И помните прошение: «Хлеб наш насущный дай нам сегодня»?
— Да, это так.
— А вот то-то и есть, что это не так.
— Позвольте…
— Да не так, не так! Я и прежде задумывался: как это странно!.. «Не о хлебе человек жив», и «не беспокойтеся, что будете есть или пить», а тут вдруг прошение о хлебе… Но теперь он мне открыл глаза.
— А мне хочется сперва в Дубельн, к жене… боюсь, как бы не пропустить поезда.
— Нет, не пропустим. Вы понимаете по-гречески слово: «epinsiox»?
— Не понимаю.
— Это значит: «надсущный», а не насущный, — хлеб не вещественный, а духовный… Все ясно!
Я перебил.
— Позвольте, — говорю, — вы мне это что-то еретическое внушаете. Мне это нельзя.
— Почему?
— Я человек истинно русский и православный — мне нужен «хлеб насущный», а не надсущный!
— Ах, да! А я теперь в восторге читаю эту молитву и вас все-таки с пастором познакомлю. Это я непременно и хотел, чтобы он, а не другой пастор, крестил маленького Волю, и он это сделал…
— Какого Волю?
— А второй сын ваш, Освальд!
— Ничего не понимаю!.. Какой сын?.. У меня один сын, Готфрид!
— Это первый, а второй-то, второй, который месяц назад родился!
— Что?.. Месяц назад?.. Что же он, тоже «epinsiox», что ли, необыкновенный, надсущный? Откуда он взялся?
— Его мать — Лина.
— Но она не была беременна.
— А, этого я не знаю.
Я вне себя, бросаю Андрея Васильевича и лечу к себе на дачу, и первое, что встречаю, — теща, «всеми уважаемая баронесса». Не могу здороваться и прямо спрашиваю:
— Что случилось?
— Ничего особенного.
— У Лины родился ребенок?
— Да.
— Как же это так?.. Отчего же…
— Что за вопрос!
— Нет, позвольте!.. Как же три месяца тому назад, когда я уезжал… я ничего не знал? В три месяца это не могло сделаться!
— Конечно… Это надо девять месяцев. Зачем же ты это не знал!
— Почему же я мог знать, когда мне ничего не говорили?
— Ты сам мог знать по числам.
— Черт вы, — говорю, — черт, а не женщина! Черт! черт!
Это вдруг такой оборот-то после того, как я к баронессе чувствовал одно уважение и почтительно к ней относился!
Ну, дальше что же рассказывать! Разумеется, хоть лопни с досады — ничего не поделаешь! Опять все кончилось, как и в первом случае. Только я уже не истеричничал, не плакал над своим вторым немцем, а окончил объяснение в мажорном тоне.
Я сказал баронессе, что терпение мое лопнуло и что я в моих отношениях к семье переменяюсь.
— Как? Зачем переменяться?
— А так, — говорю, — что совсем переменюсь, — вы ведь еще не знаете, какой у меня неизвестный характер.
— А какой неизвестный характер?
— Я вам говорю — «неизвестный». Я и сам не знаю, что я могу сделать, если выйду из терпения. Вы это имейте в виду, если еще раз захотите мне сделать сюрприз по числам.
— Какая глупость!
— Ну вот, смотрите!
У меня явился какой-то дьявольский порыв — схватить потихоньку у них этого Освальда и швырнуть его в море. Слава богу, что это прошло. Я ходил-ходил, — и по горе и по берегу, а при восходе луны сел на песчаной дюне и все еще ничего не мог придумать: как же мне теперь быть, что написать в Москву и в Калугу и как дальше держать себя в своем собственном, некогда мне столь милом семействе, которое теперь как будто взбесилось и стало самым упрямым и самым строптивым.
Вдруг, на счастье мое, — вижу, по бережку моря идет мой благодетель, Андрей Васильевич, один, с своей верной собачкой и с книгой, с библией. Кортик мотается, а сам, как петушок, распевает безмятежным старческим выкриком:
Я устал — иду к покою;
Отче! очи мне закрой,
И с любовью надо мною
Будь хранитель верный мой!
И каким молодцом идет на своих тоненьких ножках и все выше и выше задувает высоким фальцетом:
И сегодня, без сомненья,
Я виновен пред тобой;
Дай мне всех грехов прощенье,
Телу — сон, душе — покой!
Мне стало завидно его бодрости и спокойствию, да и к жизни, к общенью с людьми опять меня поманило, и на ум пришла шутка.
«Нет, постой ты, — думаю, — старый певун: пока ты дойдешь до своей постели, чтобы вкушать сон и покой, которого просишь, — я тебя порастравлю за то, в чем, кажется, и ты «виновен без сомненья».
Глава четырнадцатая
Я покинул холм, где сидел, и без труда догнал Андрея Васильевича.
Адмирал, увидя меня, очень обрадовался и сердечно меня обнял.
— Здравствуйте, — говорит, — мой друг, здравствуйте! Какая после чудесного дня становится чудесная ночь! Я в упоенье, — гуляю и молюсь, все повторяю «Отче наш» в новом разночтенье, — благодарю за «хлеб надсущный», и моему сердцу легко. «Сердце полно — будем богу благодарны». А вы как себя чувствуете?.. Вы тоже гуляли?
— Да, гулял.
— Прекрасный вечер. Теперь домой?
— Домой.
— Вот и чудесно, и пойдем вместе. Я не скучаю и один, но с сердечным, с сочувственным и благородно мыслящим человеком вдвоем еще веселей… А вы, верно, узнали все, как это случилось, и тоже спокойны?
— Нет, — отвечаю, — я ничего не узнал, да и не хочу узнавать!
— Да, это перст божий.
— Ну, позвольте… уж вы хоть перст-то оставьте.
— Отчего же? Когда нельзя понять, — надо признать перст.
— А я скорее согласен видеть в этом чей-то шиш, а не перст.
Он остановился, как будто долго не мог понять, а потом помотал перед собою пальцем и произнес:
— Ни-ни-ни! Это перст!.. И вы никогда больше не говорите «шиш», потому что «шиш» это русский нигилизм.
— Ну уж, нигилизм или не нигилизм, а я тут перста не вижу. Перст не указывает, как обманывать человека, а здесь обман, и потому я принимаю это за шиш, показанный всему моему дальнейшему семейному благополучию. Семейное счастье мое расстроено…
— Почему?
«Ах ты, — думаю, — тупица этакий! Еще извольте ему разъяснять «почему»!»
— Я не могу больше верить самым близким людям.
— То-то: почему?
«Фу, черт тебя возьми! — думаю. — Ишь в чем у них, между прочим, сила кроется. Чего они не хотят понять, того и не понимают. Так и моя жена, и всеми уважаемая теща, и этот благочестивый певунок. А я же вас разочарую по-русски, откровенно».
И говорю:
— Я, ваше превосходительство, вам скажу только одно: я вам скажу, до каких острых объяснений у нас дошло с баронессою, которую, как вы знаете, я любил и уважал, как родную мать.
— Знаю, знаю! И она этого стоит.
— Да, а теперь я ей пригрозил.
— Чем?.. Как можно пригрожать!
— Так… сказал, что я больше ничего не потерплю и что у меня есть ужасные черты в характере, которых я сам боюсь.
— Вы это пошутили?
— Нет — совершенно серьезно.
— А что вы, например, можете сделать?
— Не знаю…
— Как же не знаете?
— В том-то для меня и есть самый большой ужас, что я сам не знаю. Я терплю много и долго, держу себя… как воспитанный человек, как европеец; а потом, если меня станут очень сильно скребсти, — я и освирепею, как бык.
— Как бык!.. Гм!.. Это скверно.
— И я вперед вам говорю, что это может кончиться скверно.
— Например как?
— А например так, что я сегодня было вздумал швырнуть за ноги это дитя.
— Ой, какая гадость!
— Да, это гадость, но ведь и со мною делают нехорошее. Пословица говорит: «против жару и котел треснет».
— Ага! Хорошая пословица. Я очень люблю русские пословицы. Но это не годится. Дитя ничем не виновато.
— Ну, я донос на собственную семью напишу и пошлю.
— Офицер!.. Донос!
— Да, сам на себя.
— Этого никто не делает.
— Нет, делают; в бракоразводных делах даже очень часто делают.
— Нет, уж вы этого не делайте.
— Ну, так вот вы меня, ваше превосходительство, научите, что же мне делать-то, чего держаться и как из себя не выйти?
— Держитесь русской пословицы.
— Которой прикажете?
— «Когда ты хочешь рассердиться, подумай, что ты говоришь с генерал-губернатором».
— Такой пословицы нет.
— Есть.
— Да уж позвольте мне, как русскому, лучше знать, что такой пословицы нет.
— Я ее от князя Суворова в Риге слышал.