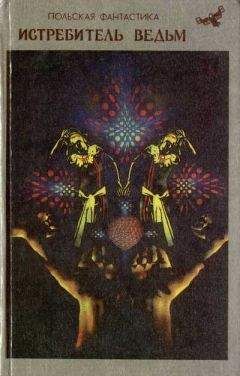Николай Чернышевский - Том 2. Пролог. Мастерица варить кашу
– Я уверен, Марья Дмитриевна, что Надежде Викторовне будет не совсем приятно расставаться с деревнею: эта школа для девочек, эти посещения больных, да и то, что здесь свобода, приволье. – эти Власовы. – все это мило, жаль расстаться; но такое огорчение не стоит брать в расчет.
– Всего этого не стоило бы брать в расчет, Владимир Алексеич. – и я не приняла бы. – давно б уехала, и вы теперь уже собирались бы ехать. Но мне кажется, что огорчение Надежды Викторовны было бы глубже. – и более достойно уважения.
– Что ж еще, кроме этих милых, но не важных чувств, могло бы привязывать ее к деревне?
– Поговорите с нею. – как покажется вам; я не хочу говорить. – чтобы вам под влиянием моих мыслей не показалось то, чего, может быть, и нет.
– Что ж это? Секрет, любовь?
– Будто вы не знаете ее!
Столько нежности было в ее словах, столько нежной заботливости в ее желании, чтобы я не говорил с отцом, не узнав чувств дочери! Она не говорила, не хочет говорить ему, что она хочет уехать, потому что ее желание – его закон, а для дочери, быть может, лучше оставаться в деревне! – Дочь кроткая девушка, уступчивая, скроет, согласится. – скажет: «И мне приятно уехать», когда он скажет: «Я соскучился здесь»…
– А если Надежда, будет говорить, что ей очень приятно остаться здесь подольше?
– Как вы рассудите. Я вам сказала, что лучше для меня. – но решайте вы. Вы лучше меня увидите, хорошо ли это для Надежды Викторовны. Я говорю вам, быть может, я и ошибалась: я горничная и не могу быть интимна с нею. – в особенности теперь. С Власовою я еще осторожнее, хоть и кажусь свободнее. Узнавать через него я не хотела: он мог бы не суметь говорить так, чтобы она не заметила, что приятнее ему. – и я узнала бы от него не ее мысли, а то, на что согласна она из любви к нему. Трудно заботиться о счастье такой девушки, в которой так мало эгоизма, так много кротости, уступчивости, любви!
– Как вы хороша, Марья Дмитриевна, когда вы говорите о ней! – Зачем же вы захотели… – я не договорил, голос у меня перервался от слез. – от слез волнения безумною надеждою, что Мери могла бы принести свое честолюбие в жертву своей любви к Надежде Викторовне: она так искренне и сильно любит эту кроткую, милую девушку…
Она могла бы чувствовать, что такая победа над собою милее всего, к чему стремится она… И как прекрасна была бы она тогда!.. – Марья Дмитриевна, Марья Дмитриевна, мне жаль вас!.. – только и мог я говорить, а сам плакал.
– Вы опять плачете о том, зачем я не так хороша, как бы надобно по-вашему? – Юноша, это невозможно, так нельзя жить на свете, – сказала она с грустною шутливостью: – Но за то, что вы сам еще такой хороший юноша и такой добрый друг, поцелуйте меня.
– Не хочу, Марья Дмитриевна, я не люблю вас. – проговорил я, а сам плакал хуже прежнего. – Мое сердце ноет за вас, ноет, Марья Дмитриевна!..
– Я не так хороша, чтобы можно было поцеловать меня. – правда. – сказала она, засмеявшись: – Поцелуйте же по крайней мере мою руку. – она приложила руку к моим губам, поцеловала меня в лоб и ушла.
А я так и остался тут, на нашей любимой скамье, у ручья, плакать. – и сидел в слезах, пока совсем смеркалось. – с полчаса, я думаю, сидел я так… В самом деле, я бываю иногда похож на ребенка.
Это было писано с одиннадцати часов вечера. – потому что, вернувшись в свою комнату, я все хандрил и лежал. – и просто лежал, раздумывая. – сел писать в одиннадцать часов, писал до трех. – после того повалился спать, спал как убитый, измучившись своими страданиями за Мери; проснувшись, услышал, что Власовы уже уехали, а Надежда Викторовна ушла гулять; сел и дописал вчерашние свои приключения уже ныне поутру, то есть
8. Кончив, посмотрел на часы, и увидел, к своему удивлению, что уже скоро будет обед. Потому разговор с Надеждою Викторовною отлагается до после обеда.
Я сказал без подготовки, чтобы яснее видеть эффект. – и пожалел, что сказал без подготовки, – так силен вышел он.
Я оказал ей маленькую услугу: мне кажется, что ей скучно в деревне, – и я вот только что говорил об этом с Виктором Львовичем. – он сказал: «А! тем лучше, если ей скучно. – мне самому надобно быть в Петербурге, – поговорю с нею и поедем».
Она побледнела. Даже губы побелели.
– Вы испугались, Надежда Викторовна? – Простите мою ошибку. Я не мог не думать, что вам скучно здесь: кроме Власовых, у нас никто не бывает, да и некому бывать, потому что кругом нет порядочных людей, и т. д., - а Виктор Львович говорил не так, что ему необходимо ехать. – может быть, и отложит, если вам и т. д., - но почему же вы и т. д.
Она испугалась потому, что отъезд все еще представлялся ей таким отдаленным. – она совсем забывала, что уже скоро осень. Ей не хотелось думать об этом, а время летело так быстро. – ей вовсе забывалось, что скоро надобно будет расставаться с деревнею. Если б ее воля, она долго, долго не рассталась бы с деревнею. – она не знает, когда она захотела бы ехать в Петербург, кажется, никогда… Это потому, что здесь она совершенно счастлива… И madame Lenoir говорила ей, чтобы она как можно дольше удерживала отца в деревне: в деревне их расходы ничтожны сравнительно с теми, какие будут в Петербурге; пусть она помнит, что каждая неделя, проведенная в деревне, сберегает ее отцу две тысячи рублей и что в России готовится освобождение крестьян: чем лучше будет положение дел ее отца к тому времени, тем легче ему будет сделать в пользу своих крестьян при их освобождении все то хорошее, чего он желает. Для хорошего освобождения своих крестьян ему нужно будет очень много денег. Она не умеет пересказать мне так хорошо, как говорила ей это madame Lenoir; но, конечно, я сам знаю все это еще лучше: так говорил ей отец, что я знаю все, как надобно освободить крестьян…
Я в эти дни совершенно забывал о денежных делах Виктора Львовича. – забывал и взглянуть с этой точки зрения на вопрос об отъезде Мери в Петербург и о неизбежном следствии ее отъезда – ускорении нашего переселения туда. Слова Надежды Викторовны поразили меня, будто новость, и я сильно поколебался.
Но очевидно было, что, кроме пользы крестьян, Надежда Викторовна думает еще о чем-то, чего не может высказать мне. Она очень хорошая девушка, и желание пособить отцу при освобождении крестьян, конечно, так же близко ее сердцу, как моему. Но она не может не понимать, что какие-нибудь десять – пятнадцать тысяч не большой расчет в делах ее отца. Такая мелочь не может иметь влияния на то, какие уступки в состоянии он сделать при освобождении. Надежда Викторовна могла бы огорчиться, что разрушается ее проект этой маленькой экономии; но тут еще не от чего было ей ужаснуться до того, что побелели губы. Тут личное чувство.
– Конечно, так. – сказала Мери: – она ужаснулась за саму себя. Она справедливо боится Петербурга. Madame Lenoir воспитывала ее так, что она серьезно понимает жизнь. Ей было говорено, что любовь – это не ребяческое веселье, а страшное чувство, тяжелая душевная болезнь, и очень редко имеет счастливый конец, почти всегда ведет к долгому страданию, что если это и неизбежная болезнь, то чем позже подвергнуться ей, тем лучше: пусть укрепится рассудок, пусть приобретется хоть немножко побольше уменья различать людей. Ей было говорено: «Как ты явишься в свет, за тобою будут ухаживать все знатные женихи. – ты такая богатая невеста. Между ними очень мало хороших людей, а очень много таких, которые умеют превосходно притворяться хорошими. Горе тебе, если ты ошибешься в выборе». Она девушка не огненного темперамента, ее воображение чисто. Потребность страсти еще не пробудилась в ней, и она трепещет при мысли о Петербурге с его женихами…
– И не напрасно трепещет. Будь она не очень богатая невеста, она вошла бы в такое общество, где встречаются люди, достойные девушек с чистым сердцем и нежным характером. А с ее приданым, наверное, она погибнет.
– Кажется, вы жалеете уже не меня. – вчера, помните, вы плакали от жалости обо мне. – а теперь, пожалуй, расплачетесь о ней и забудете жалость ко мне. – сказала Мери, смеясь, но очень грустно, будто сама понимает, что приняла дурное решение; а я видел, что она уже приняла какое-то решение. Она не была похожа на вчерашнюю Мери, больную, плачущую, колеблющуюся между робостью и отвагой, стыдом и гордостью. Она была спокойна, и румянец ее был ровный, нежный, здоровый, улыбка весела, взгляд смел: – Кажется, вы так жалеете о ней, что готовы посоветовать мне оставаться здесь, чтоб она также подольше оставалась здесь, безопасная и счастливая?
– Да, Марья Дмитриевна. Лучше оставайтесь здесь. Пусть продлится, насколько возможно, тихое счастье этой милой девушки.
– А как же, Владимир Алексеич, я погублю-то ее, если не уеду поскорее? Вы забыли: обнаружится, что я любовница ее отца, она потеряет доверие к отцу. – все погибло. – сказала Мери с горькою насмешкою.