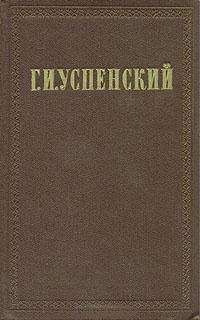Глеб Успенский - Том 5. Крестьянин и крестьянский труд
Так и остановил один целый флот. Один человек, частное лицо, представитель десятка частных лиц — взял да и остановил целый флот, не дал ему ходу, не побоялся пушек и пуль и имел силу все это сделать только потому, что ему тоже надо деньги получать. Только потому его и понял и «уважил» другой представитель группы частных лиц и банков, что понимал огромное значение акта получения купонов. «И вам тоже по купонам?..» — «Да-с, и мне-с!» — «Ну, извините…» А падишах, сын солнца, брат луны, при всем могуществе, не может препятствовать ни флоту, ни разоренью подданных, ни войне, ни пожарам. Что же значит после этого тот человек, с которым расправляются, — феллах? Напрасно он кричит: «Дайте продать овес!» «Неурожай!» «Разорился!» «Позвольте вздохнуть!» «Извольте выслушать, отчего…» — никакого внимания! «Отдай купон!.. Заряжай! Пли!»… Вот какие дела стали делаться на белом свете! «Отдай купон, не то убью»; а что касается там какого-то твоего «личного» счастия, какого-то национального достоинства, каких-то семейных и общественных обязанностей, каких-то умственных и нравственных недоумений, жизненных задач — наплевать! «Отдай, а сам хоть провались сквозь землю!» При таком «последнем слове», определяющем главную задачу современной жизни, — слове, произнесенном и освященном отборными представителями отборнейшей и могущественнейшей нации всего света, — мудрено роптать на то, что урядник также выдвигает на первый план «съестные припасы» и во имя их желает обеспечения.
Но сказать о крайнем оскудении «духовной деятельности» русского человека, о крайней ничтожности проявлений этой деятельности все-таки необходимо. Оскудение духовной жизни до такой степени велико вообще, что иногда не только отказываешься дать объяснение существованию всевозможных лиц, прикосновенных ко всевозможным учреждениям, но не можешь объяснить и резона для собственного существования. Живешь, глядишь и не знаешь — зачем все это, надобно ли это, из-за чего, наконец, на человечество навалилась такая масса необузданной скуки и почему такое мертвое молчание? Что вообще все это значит: «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж отдают?» Ведь необходимо же, чтобы для каждого амплуа было какое-нибудь объяснение. И притом, если это амплуа желает, чтоб я, обыватель, уважал его, то объяснение его существования непременно должно быть для меня приятное, вызывать во мне сочувствие, иначе я могу только переносить это амплуа, не имея с ним ни малейшей внутренней связи. Недавно мне, например, рассказали, что батюшка соседнего прихода, посетив умирающую женщину, обратил внимание на двенадцатилетнего мальчика-сироту и спросил его: «Ходишь в школу?» — «Не!» — отвечал мальчик. «Отчего?» — «Денег нет» (надо платить пять рублей в год). Батюшка подумал, поговорил с мальчишкой и сказал: «Ну, ходи в школу — я за тебя пять рублей заплачу!» И, точно, заплатил. Когда мне рассказали об этом случае, поверите ли, я целый час не мог прийти в себя от изумления, «Как, пять рублей?» — «Да так — жалко мальчишку стало». — «Да неужели только потому, что жалко стало?» — «Только!..» Удивительно, необыкновенно! Судите сами: просто, так (слова всё диковинные), батюшка сжалился и заплатил пять рублей за чужого мальчонку… Как хотите, а это удивительно. За это в самом деле следует уважать батюшку. В одном заграничном католическом городке в тяжкой болезни умирала русская женщина. Жила она в беднейшем квартале, в беднейшей комнате и последние дни ниоткуда не имела помощи. В это трудное время, в один из самых тяжких и мучительных часов, которые проводила умирающая на чужбине, в дверь ее комнаты послышался стук. Отворили. Патер просунул руку с конвертом, поклонился и ушел. В конверте было двадцать франков. Это, конечно, фокус — эти двадцать франков пущены в ход для завоевания всего бедного дома, в котором была умирающая; но зачем этот фокус и почему фокус такой, а не другой? — Потому, что его делает монах. Этот поступок вполне объясняет его звание. У нас не так. «Батюшка! сейчас повели в волость драть Ивана Тимофеева. Богом вам божусь, занапрасно. Старшина на него осерчал, что он на учете шумел, срамил его и повел драть за грубость якобы… Вступитесь!» — «На это, друг любезный, отвечу я тебе кратко: не мое дело! Я сунусь, а он на меня — кляузу, вот и возись с ним…» И точно, как сунулся с чем-нибудь хорошим, так и — кляуза. Кляузу примут во внимание, а насчет «хорошего» скажут: «не твое дело». Уж такое «заведение», такая привычка. И вот, повинуясь порядкам этого «заведения», батюшка садится на лавочку около своего дома и, слушая, как в волости кричит мужик, нюхает табак и говорит:
— Ишь как запаливает!
— Смородины нарезал! — объясняет церковный сторож.
— Где же смородину-то брали?
— Да тут, у Авдотьи.
— А хороша смородина-то?
— Смородина-то у ней буйная…
— Буйная?.. Так хорошо бы у нее кустика два-три…
— Что ж, можно… У-ух, как задувает!..
— Да… Расходилась рука…
Вот почему мы предпочитаем другой тип батюшки, который, говоря: «люби ближнего и помогай», в самом деле помогает — дает пять рублей бедняку. Этот поступок оправдывает место, занимаемое им, и даже просьбу о прибавке: она будет у такого батюшки формулирована не одною только дороговизной солонины, которая (как пишут в прошениях) «достигла даже до четырнадцати копеек!..» По этому же самому нам, обывателям, приятнее бы было, если б и начальник станции (о котором упомянуто в начале), вместо того чтобы не давать жалобной книги, напротив, сам бы прибежал с ней, сам бы сказал: «Боже, какое происшествие!» — а не ломался бы, не говорил бы глупых слов: «с опозданием» и т. д. в то время, когда живой человек разбился на наших глазах вдребезги. По этому же самому нам приятны и судьи, которые оправдали солдата, «растратившего патрон», и сказали: невиновен. По этому же самому приятны и мужики, которые наняли для нищих и для странных дом, купили дров, хотя и могли, на основании господствующей моды, вследствие которой «люби ближнего» значит: «чужая не приставай» или «не твое дело», — просто гнать нищих от своих ворот, говоря кротким голосом: «не прогневайся», «иди себе с богом прочь!» и т. д. Спрашивается: что же именно во всем этом приятного и в чем заключается эта приятность? Неужели только в том, чтобы понимать и знать, зачем существует то или другое амплуа на белом свете? — Нет, мне мало понимать все эти общественные амплуа, мне надо знать, что они хлопочут о том, чтобы мне было лучше. Зла, тьмы, тяготы, невежества и так довольно — все это мы воспроизведем без всяких поощрений и одобрений; для увеличения тягости и холода жизни не нужно никаких амплуа, и не стоит таким амплуа давать прибавки, хотя бы солонина достигла и семнадцати копеек за фунт. Нам надо добра, правды, облегчения жизни, ободрения того хорошего, что в нас есть; нам надо, чтобы все эти амплуа, хоть из пятого в десятое, знали и понимали, что такое значит слово «общее благо». Но ведь ужасно сказать: самое понятие, заключающееся в этом слове, исчезло совершенно изо всех амплуа, и мы, обыватели, не чувствуем смелости проявлять хорошие побуждения, убеждаемся, что они вышли из моды, что главное — не это, а «не твое дело» и «дороговизна съестных припасов». И стоит дьявольская тоска. Солонина «достигла» двадцати копеек — неизвестно отчего. Батюшка сидит дома и думает об улучшении быта — неизвестно с чего. В волости «наказывают» Ивана Родионова — неизвестно за что. Урядник едет рысью — «неизвестно куда и зачем…» Неизвестно, зачем прилетела птица под окно… Солнце светит… Солонина «достигает»… И становится, «неизвестно отчего», страшно…
VII. Деревенская молодежь
«…Однако, — возразит мне читатель, — несмотря на все ваши причитанья о том, что вообще понятие об общем благе как бы вообще иссякло и исчезло, действительность народного духа вовсе не замерла. Ведь вот устроили же ночлежный дом для странных. И никаких тут ни указаний, ни поощрений, ни поддержек не было… Стало быть, и без всяких наемных или ненаемных деятелей народ сделает себе сам все, что ему нужно и что он найдет полезным. Лучше всего оставить его в покое, право…»
Все это справедливо, и все это я понимаю и знаю. Знаю я, что дух народный не умер и не умрет; знаю, что рано или поздно, убедившись, что «люби ближнего» — не одно и то же, что «свои собаки грызутся — чужая не приставай», — народ «сам» примется за объяснение этих слов. Знаю, сколько бед и напастей, зла и трудностей произойти от этого может. Знаю я, что все это идет и сейчас на глазах у всех нас, но я утверждаю, что это идет с «ненужным» злом, с «ненужными» мучениями — идет безобразно, дико, нелепо. Ведь для того, например, чтоб устроить ночлежный приют для «странних» и сделать это «своими средствиями», необходимо было, чтобы каждая из деревень, принявших в этом участие, сгорела по крайней мере раза четыре от трубки, которую забыл прохожий в сене; надобно было, чтобы решительно все были много раз обокрадены, хотя и в разное время и в разных размерах. Крестный ход, учрежденный тоже по собственной инициативе крестьянами села Зайцева, учрежден потому, что весь скот переболел у всех; другой ход в той же деревне учрежден потому, что во всех дворах холера выела людей, и т. д. Надобно было, чтобы воровские наклонности прохожих всеми ощутились в таких неудобных размерах, чтобы все заговорили о необходимости ночлежного дома… Но вопрос о бесприютном человеке — такой огромный, общественный вопрос, что его можно и должно ставить пред общественным вниманием, не дожидаясь, покуда он поставит себя воровством, пожаром и т. д. Я очень хорошо знаю, что народ не может верить, будто бы «люби ближнего» есть то же самое, что «чужая не приставай», — знаю, что он будет искать подлинного объяснения этих слов, знаю всю ту огромную муку, которая ему предстоит; но почему я, зная это, должен молчать — этого я не понимаю и понять не могу. Так во всем. Нисколько не теряя веры ни в народную душу, ни в народный ум, мы, люди, принадлежащие к так называемой интеллигенции, но по несчастию забывшие, что обязанность наша — непременно помнить только о благе общем, чтобы деятельностью в этом смысле оправдывать свое положение, — присутствуем пред поразительно-безобразным зрелищем. Видим, как «своими средствиями» — всегда тяжелыми, грубыми, мучительными, исполненными страданий, ошибок и напрасных мучений — народ ставит и пытается разрешить такие вопросы, которые давным-давно поставлены; глядим на это и знаем, что «рано ли, поздно ли» (десятками лет) он придет именно к тому фазису вопроса, который давно у нас уж пред глазами… Народ, идя к разрешению того или другого занимающего его вопроса, бредет ощупью, не зная завтрашнего дня… Мы знаем этот день и — молчим.