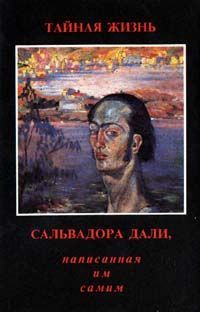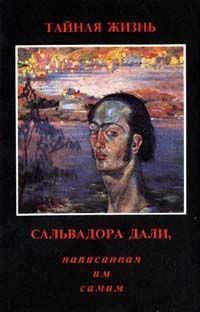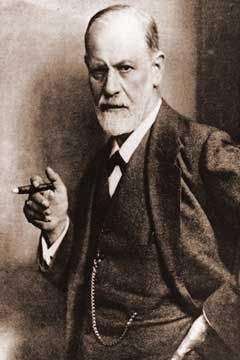Неизвестен Автор - Библиотечка IP клуба
На мгновение я почувствовал это: я сижу там, на месте своей тени, глажу по спине потрескивающего электричеством черного кота и говорю ему сладко: "Хор-рошая киска!" Я встряхнул головой - наваждение спало... - Да, конечно, - сказал я. - Но ты так и не объяснил, почему именно я должен считаться ее тенью, я не она - моей?.. И еще ведь остается один вариант... Может, в конце концов, мы оба повторяем движения кого-то Третьего, тенью кого мы являемся. - Ну и кто же этот Третий? - прищурил глазки Кот. - Говори, договаривай! - Не знаю... Я пошевелил пальцами. Тень тоже пошевелила пальцами. Они были у нее желтоватые, мослатые, в редких шерстинках. Между большим и указательным пальцами у нее был старый шрам. Когда-то в детстве за мной не уследила моя няня, и я очень сильно порезал руку ножом. Сам я ровным счетом ничего не почувствовал, а вот тень моя долго извивалась в крике. И, забыв обо всем, вместе с ней квасил губы и я - от ее боли. Может быть, я надеялся так ее немного подразнить и развлечь, но она не обращала на меня в тот момент никакого внимания, занятая своею рукою, из которой вскоре стала сочиться ярко-алая жидкость... Кот пристально посмотрел на меня: - Кто знает, от чего зависит твоя судьба... Может быть, ты и прав, что так бережешь свою тень? Может быть, если с ней что-нибудь всерьез случиться, то и тебе несдобровать?.. Что ты сам знаешь о собственной тени кроме того, что она, якобы, твоя тень? Неужели же ты воображаешь, что знаешь о ней все? Вот вы живете рядом столько лет, а между тем, у нее есть своя Тайна... Я вздрогнул. - Тайна? - вспомнил я. - Какая же у нее может быть тайна?! Так, одно небольшое недоумение. - Но ты не знаешь того, что открыто ей, значит, ты в чем-то ущербен по сравнению с так называемой собственной тенью... А эта тайна у них, в их книгах, между прочим, называется Светом, - авторитетным тоном провозгласил Кот. - И не дай бог, на тебя упадет хоть самый завалящийся лучик... Ты просто исчезнешь тогда, мой друг, растворишься, как сахар в кипятке... - Бред какой-то, какие-то суеверия, - нерешительно пробормотал я. - Какой еще, к черту, Свет? - Боюсь, мой друг, - сочувственно покачал своей башкой Кот, что существуют тени тех вещей, которых просто нет в нашем мире. А это значит, что их мир теней - настоящий, а наш - только его тень.
Тень моя, между тем, почувствовав, что наступил вечер, встала с дивана (и вместе с ней встал со своего теневого дивана я, уже успевший расплыться к тому времени каким-то неясным пятном), взяла с тени старого комода тень свечи и тень спичек... И тут я не выдержал. Боюсь, у меня началась самая банальная истерика. Я набросился на свою тень, схватил ее за плечи, тряс, стараясь взглянуть на то, что держала она в своих руках. Она сперва не давала, рыча и дергая головой, съежилась, крутилась в моих объятиях, пытаясь меня сбросить... Но вот я, наконец, вытянув свою шею и залепив своими серыми ладонями ее глаза, потянулся, выгнулся... и мгновенно ослеп от яркого Света. Да будет вам известно, милостивые государи, что Свет похож на сияние миллионов и миллионов ночных звезд... Нет, вру, он ни на что не похож, он - Свет... Правда, Света я до той поры не видел, не знал, что это - Свет, не называл его в тот момент так: Свет... Но сразу понял, что случилось нечто необратимо ужасное... О, лучше бы я не видел его и впредь! Я услышал как бы эхо какого-то отдаленного выстрела и крики "ура", исторгнутые нетрезвыми голосами. Когда я очнулся, я застал себя самого за странным занятием: я, как зачарованный, рассматривал горящую свечу в своих собственных руках. Но я уже был - не я, а кто-то другой... Я с ужасом обнаружил, что стал своей собственной тенью. Я оглянулся назад, на себя... На стене я сам же, мое собственное прежнее тело исполняло какой-то замысловатый издевательский танец, радуясь, что ему удалось таким образом избавиться от меня, от моего сознания. ...И вместе с тем, я, в общем-то, понимал, что ничего на самом деле не произошло, что то, что я теперь вижу, - это какая-то роковая иллюзия, застившая мои глаза... что я все так же остаюсь человеком, только в силу некоторых обстоятельств воображаю, что мое сознание переместилось в мою же собственную тень. Экая нелепая фантазия!
Тень Кота я, конечно же, задушил. И, представьте, вместе с ним мне удалось избавиться и от самого этого паршивца, забегавшего, что ни вечер, в мою квартиру. Пришлось только выдержать нелегкий разговор с тенями соседей... Но зато он больше не скачет по моим стенам. Выходит, и в этом он оказался прав: жизнь нашей тени прочно связана с жизнью тела. Самое забавное, что никто из окружавших меня людей и теней не заметил произошедшей со мной катастрофической перемены. А мне затруднительно было бы описать то, что со мной произошло. Я и сам не могу всего понять, тем более, что я лишился Кота. А может быть, иллюзией была вся моя прежняя жизнь в виде собственной тени? А может быть, я глупею - и действительно становлюсь своей собственной тенью? Я встаю утром с постели, поминая недобрым словом свои ночные труды, проковыриваю пальцами отверстия для глаз в окружающей меня тьме (края дырок так и остаются после этой операции чуть красноватыми) - и смотрю на Свет. Свет бывает разным: серым - в сумерках и утром, красновато-красным - от заката, желтым - от фонарей и от пожаров, тех, что раньше я почему-то никогда не замечал. Горят усадьбы, горят книги - их, теневые, ложные книги, а вместе с ними и наши, истинные...
Когда меня берет за горло тоска, я выхожу в яркий полдень из дому, старательно обходя завалы из камней, развороченных заборов, кроватей, шкафов, мешков с песком и всяческого хлама, забредаю на какую-нибудь площадь и ложусь на нагретую солнцем брусчатку. Не обращая внимания на насмешки, я старательно воображаю, что я распростерт под своею собственной тенью на камнях, что я - черен, что я - ну, совершенно бесплотен... Надо мной проходят люди, колышутся красные знамена, играет отвратительнейшая музыка и слышны какие-то хриплые возгласы. Вот мне уже чудится, что я совершил невозможное, но когда я открываю глаза, я вижу все тот же слепящий Свет. Впрочем, здесь кроется какая-то ошибка. Ведь все на самом деле не так. Я был и остаюсь собою, мне лишь КАЖЕТСЯ, что я - не я... Я вовсе не тень, а только вообразил, что зажил жизнью своей собственной тени. Надо совсем не так. Цель не в том, чтобы куда-то там переселиться, а в том, чтобы не видеть Света. И ради Бога, умоляю, не наступайте же на меня!
Февраль - март 1997
...Тень, например, обожала усаживаться прямо на шкуру Кота, подвернув под себя тень хвоста, и подолгу самым аккуратнейшим образом вылизывала свои лапы...
21 февраля - 2 марта
--------------------------------------------------------------
ПОКА ОНИ ЕЩЕ ТЕПЛЫЕ...
Я люблю эти сентябрьские вечера. То время, когда воздух еще не пропитался мрачной моросью и холод не стискивает ночами землю. Пройдет неделя-другая - и осень погибнет безвозвратно, так, что даже нахлынувшей вдруг невпопад жаре запоздавшего бабьего лета не по силам будет ее воскресить. Она только ускорит падение гиганта, что запутался в летящей по воздуху паутине, спотыкается в мокрых гниющих дырах под корнями орешника, в распавшихся грибницах и в остатках звонкой тишины, которая долго еще стоит в ушах после того, как журавлиная стая пронеслась над нашими головами... Я люблю и этот спокойный воздух, все его протоки, мягкие запахи и тонкие струи, которые не спутаны еще в клубок холодными ветрами октября; не тронутое гниением золото и кровь - ими расплачивается лето, с достоинством удаляясь вплоть до следующего безумного кутежа. В лесу, где никакому угрюмому дворнику еще не пришло в голову орудовать своей куцей метлой, можно без страха улечься на чешую из листьев, которые щекочут выбившийся из-под рубахи живот, а в жарких провалах древесного ствола, источенного короедами, конечно, можно, если поднапрячь фантазию и стать терпеливым, отыскать кое-какие небогатые запасы, сделанные белками на зиму. В сумерках, когда ровный гул, треск и стершиеся в прохладе запахи леса погружают тело в зыбкую, но ясную и трезвую атмосферу первых пропаж и немой тяжкой растерянности, хорошо думается обо всем, звезды сияют все ослепительнее, а Млечный Путь проявляется сквозь черноту, придавая небесам должный объем, и клубится так до той поры, пока не начнется восход чуть зеленоватой (и вогнутой как бы внутрь себя от этой ослепительной ясности) луны. В такие вечера хорошо сидеть вокруг маленького бездымного костра, разведенного на берегу озера. Озеро - темное, угасшее, покрытое ряской и обмелевшее от недавней жары - лежит неподвижным зеркалом под крылами, которые раскинул над ним Млечный Путь.
...Когда только начался сентябрь, я ходил вялым, как вынутая на поверхность рыбешка: признаться, шеф здорово взял меня за жабры, требуя отчетов, результатов... И сколь бы не казался к месту совет иных приятелей "держать хвост пистолетом" (скоро, скоро старика "уйдут" на пенсию, и тогда кто-то должен ведь получить отдел...), но "держать пистолетом", по сути, было нечего, разве что огрызок исписанной авторучки; с тоской провожал я ряды кофейных пятен на своем рабочем столе и испорченные тетради. Но вот появился Макар - и с ним сразу все стало чрезвычайно просто. К тому же и мой старый "Москвич" весьма кстати вынырнул тут на днях из ремонта... В должный срок, как и много лет подряд, я оказался в Гульбищах... Впрочем, на этот раз мы не разводили костров, разговаривали только шепотом и даже старались поменьше шевелиться, чтобы не шуршать опавшими листьями. Что-то странное, иррациональное вторгалось в мою душу, волнующуюся при виде свободных стихий, подобно самой поверхности морской... какие-то мрачные фантазии, изо всех сил стремящиеся овеществиться, заслоняли перед моим мысленным взором строчки никому не нужного годового отчета и кофейные пятна на выходном костюме в серую клеточку. Я чувствовал себя сейчас потерянным, оторванным от всего прежнего мира, на равных со всеми сокрытыми в этой глуши змеями и птицами, которые способны прожить весь свой век, ни разу не попавшись на глаза ни одному человеку. Непуганые утки, куропатки и вальдшнепы готовы подпустить тебя на расстояние выстрела из дробовика, зайцы и лоси перебегают дорогу, что лежит всего километрах в двадцати от автострады Зубов - Десна, волки зимою заглядывают в окна одиноко стоящих домов и бегут дальше, на встречу с несущим снега от волжских берегов норд-остом. Я испытывал странное чувство отрешенности, разглядывая дальнюю полоску берега в уверенности, что ее в данный момент не видит больше никто, - значит, она сейчас здесь существует как бы для одного только меня, я закрою глаза - и вот ее нет уже ни для кого вовсе... Моя правая щека устало ткнулась в сухую травяную кочку с еле различимым запахом болота и дневного солнца, а рядом запыхтел Макар, нарушая ход моих мыслей. Макар затянут в потрескавшуюся старую куртку, от которой чуть слышно пахнет костром, куревом и соляром. Она совсем уже не скрипит, но безбожно ползет по швам, отчего кажется, что Макар дышит жабрами - вот-вот из-под кепки выползут нетверезые рачьи глазки... Чуть поодаль, где-то у нас в ногах, расположился Макаров братан - неприятный субъект с проваленным носом - ущербный и в фас и в профиль, поросший щетиной, бородавками и кривыми зубами... Вместо платка на шее носил он кусок грязно-желтой чесучи, а вместо портянок пихал в свои растоптанные говнодавы газетные листы из библиотечных подшивок "На боевом посту" двадцатилетней давности. Он ругался вполголоса с нудным тупым упорством, будто бы влез там голым животом на муравьиную кучу, или сук какой впился ему прямо в коленную чашечку. Ругался до той поры, пока у Макара не кончилось терпение; тогда Макар сдал немного назад, ужом скользнув меж кочек, да и лягнул братана, попав в плечо, отчего тот ругаться сразу же перестал, но взамен того тихонечко заскулил и отполз в сторону. Я поежился. Мой плащ отсырел, сырость проникла под свитер и даже в отвороты кирзовых сапог. Макар тоже был в кирзачах, а вот братан его разыскал где-то резиновые, болотные и вдобавок к тому благоразумно облачился в ватные втоки, "чтобы они, с-стервы, не прокусили..." А в Гульбищах сейчас изо всех окон струится ровный лимонный свет, пахнет жареной картошкой и подгоревшими пирожками... Рассказывают старые страшные сказки о ведьмаках и домовых и осторожно протапливают к зиме чадящую печь. Я отлежал руку. Перекатился на другой бок, осторожно заворочался и приблизил губы к макарову уху: - Может, - прошептал я, - они не выйдут сегодня вовсе? - Могут и не выйти, - с готовностью (тоже, вижу, надоело безгласым дожидаться ночных визитерш) согласился Макар. Он смотрел вниз, на остатки костра, на распечатанные рыбные консервы, конфеты с ликером, на слабо поблескивавшие в лунном свете бусы кровавого стекла, флакончики с едким розовым маслом и пахучие цветы (должно быть, астры или хризантемы). - И не жалко тебе было палисадник разорять? Макар, кажется, слегка пожал в темноте плечами: - А на что еще их растить? Все равно скоро замерзнут, - он тяжело дохнул перегаром, выгоняя из ноздрей запоздалого осеннего комара. - Могут и догадаться, - предположил я, стараясь попасть в деловой тон моего приятеля. - Если каждый раз ты так... - Кто? - удивился Макар, - Бабы-то? Да они нипочем не догадаются, сколько их не лови. Вон, - он кивнул на братана, Шурик лет десять смертным боем свою бил, так она каждый раз верила, что он это в последний раз, надеялась, что он перестанет, да так, пока не подохла, падла... Он вздохнул и поскреб небритый подбородок свободной рукой. В другой руке он сжимал обмотанный для верности вокруг запястья конец веревки. Я нервно зевнул. Ни малейшего движения не было заметно на водной глади, раскинувшейся под нами. Вот только светящихся лепестков лотоса вместо пятен бурой ряски не хватало, чтобы немедленно ощутить себя на берегу Вечности. И озноб не давал глазам смыкаться. Вдалеке, у островов, в тени растущих на них ив, как будто что-то белело. Но нет, это скорее всего лишь игра моего распаленного воображения... - Что-то сегодня слишком прохладно, - я осторожно помассировал веки, - может быть, завтра теплее будет? Чего сегодня мучиться-то... - Может, завтра и потеплеет, - усмехнулся Макар, - но брать их будем сегодня. Все! Раз уж пошел с нами - так лежи, давай, не трепыхайся. Я промолчал. - Тут, глядишь, - добавил Макар чуть погодя, - дожди зарядят, грязь, лужи, ну а там и зима. И они тогда все под лед уйдут. Нет, надо сегодня брать! Зашелестел в ветвях ветер, просыпав на нас несколько горстей мелких рябиновых листьев, забившихся за шиворот, запутавшихся в волосах, проложивших цепочки торопливых следов по водной глади. Пробился сквозь этот шелест одинокий заполошный выкрик сойки, проснувшейся на своей ветви от дурного сна. Лес недовольно проскрежетал в своей глубине голыми мертвыми ветвями, пошевелил щупальцами корней в засохшей траве, засеял ее катышками свежих головастых желудей - и снова затих. Я думал. - Слушай, Макар, - спросил я осторожно, - а зачем они вам вообще нужны, бабы-то эти? Давно хотел тебя спросить. Все-таки нехорошо это как-то. Всякая живность - она ведь волю любит... А вы ловите их, куда-то тащите, жабры обдираете... Им же привычная среда, наверно, нужна... - Да что там среда! - Макар, оскалился, позволив холодному лунному свету коснуться золотой фиксы в своем рту. - Они в любой среде себя хорошо чувствуют. Они, если хочешь знать, неволю-то еще пуще твоей свободы любят. Уж я их знаю, поверь... Да и приручаются они совсем неплохо, тут главное только спуску им не давать. Ну и выгуливать, может быть, только изредка. Глядишь - она и сама убегать от тебя не захочет. Мы, если хочешь знать, вовсе и не браконьеры, мы благое дело с тобой сотворим. Они ведь все вымрут там, за зиму-то... Вот как-то в семьдесят шестом зима лютая была так, веришь ли, метра на полтора вглубь все озеро-то и промерзло... Нет, зимой им трудно приходится... - А все-таки, - не отставал я, - зачем они вам? Теперь Макар задумался. - Так сразу и не скажешь...- проговорил он неохотно, Баловство одно... Можно грузы какие-нибудь на них возить, но только чтобы не очень тяжелые и не далеко. Можно бои между ними устраивать, соревнования, гонки всякие... Экстерьер там, то да се - ну это уж большей частью у вас, в городе. Можно по волосам гладить, говорят, это от изжоги помогает, от прыщей и от язвы желудка тож... Если баба в доме, говорят, язвы желудка не бывает. Но я в это не верю. В такую ахинею, в хиромантию да в астрологию, только глупые бабы и верят. Вот когда такая луна, как сегодня, они и вылезают. Тут их и бери. Макар подумал еще немного: - А вообще, черт их знает, зачем они там нужны. Бабы - они и есть бабы! А ну как вдруг одна-другая понадобится - хвать! А нет их! Пока тепло еще, надо, знамо дело, озаботиться, а то потом - хоть в прорубь ныряй. - Все з-зло от них, - мрачно буркнул рядом со мной Макаров братан, и я вздрогнул, потому как не заметил, когда это он подполз к нам так близко. - Вся дрянь от них, - повторил он упрямо и дохнул на меня запахом чеснока и забродивших щей. Макар хихикнул: - Вот кто знает, что с ними надо делать! Вот кого порасспросить бы... Но ведь ты, Шурик, не объяснишь толком, ты ведь тоже дурак, скажи, дурак ведь, а? Глупый он у нас - сущая баба. Шурик зарычал угрожающе. - Уж не знаю, что он с ними делает, - шепнул мне на ухо Макар, - но визжат они, как резанные. Хоть и бабы, но даже мне не по себе иной раз становится. И соседи жаловаться приходят. Шурик каждый раз клянется, что в последний раз, но каждый раз сдержаться не может. Они ведь такие тепленькие, мягонькие, а Шурик? Шурик стеснительно засопел. Макар губами причмокнул. Причмокнул вслед за ним и Шурик, а потом тихонько засмеялся. Шурик, как баба, не помнил обид. За это его в деревне презирали. Я посмотрел на них - и тоже причмокнул. - Ну ладно, - сделался вдруг серьезным Макар, - ша, братва, скоро уже полночь! Он лег поудобнее на свою кочку и взялся за веревку обеими руками. ...Я, кажется, успел-таки задремать. К действительности меня вернул весьма чувствительный толчок локтем под ребра. Я порывался было объяснить, что вовсе не сплю, но шершавая, как коровий язык, ладонь Макара обратила все мое возмущение в короткий сдавленный всхлип. Из озера, старательно избегая канав, протоптанных коровами в грязи, топляка, в беспорядке торчащего со дна, вылезали сразу три бабы. Одна из них была ростом гораздо ниже двух остальных, зато вот третья, вылезшая из воды самой последней, не переставая принюхиваться и ворочать с недоверием своей лохматой башкой, толщиной своей превосходила двух первых вместе взятых. Я почувствовал, как рядом неровно задышал Макар, увидев такое зрелище. Это было и впрямь изумительно: капельки воды, усеивающие кожу незнакомок, поблескивали в лунном свете и потоками серебристого дождя срывались с волос, когда та или иная баба принималась шумно отряхиваться. Но не запросто как-нибудь, по-собачьи, они отряхивались, нет, во всех их движениях чувствовалась странная выверенность, слаженность, будто для кого-то предназначен был весь этот спектакль, будто знали или догадывались глупые бабы о трех затаившихся за кочками зрителях. На миг мне даже почудилось, что вовсе не мы на них здесь устроили засаду, а сами вот-вот попадем в невидимые сети, расставленные этой троицей. В них чувствовалась какая-то гипнотизирующая грация, сжимающая сердце чем-то неуловимым и недоступным, каждый поворот плеча и шеи сопровождался коротким взблеском широко открытых или затененных длинными ресницами глаз... Случайно брошенный в мою сторону взгляд завораживал меня, будто бы что-то неживое, иррациональное исходило от этих бледных тел, от чередования скупых жестов со скользящими над землей взмахами рук, силящихся отыскать одним им ведомое хрупкое равновесие. От волнения я даже забыл проверить истинность старой байки. Говорили, что у диких баб должны быть хвосты вроде коровьих, которые они сбрасывают чуть погодя, поживя какое-то время на суше. Но я думаю, что это, в сущности, не так уж и важно, пусть даже и были бы хвосты, это ничуть не умалило бы в тот момент в моих глазах незнакомок. Та, что поменьше, наступила босой ногой на стекляшку и взвизгнула. Две другие бабы рассмеялись. Смеялись они почти так же, как и мы, но только искренней и мелодичней. - Смотри, смотри, - Макар с увлеченным жарким шепотом прижал свои губы к моему уху, - ты говоришь... глупые они, бабы! Смотри, есть хочет, а банку открыть не может... Бабы снова смеялись, измазавшись мармеладом и вареньем. Одна у другой отняла банку, но не удержала в своих тонких полупрозрачных пальцах, банка выскочила и глухо ухнула о камень. Толстуха заворчала разочарованно. Потом она оглянулась и встревожено показала в сторону озера. - Так, пора, - деловито зашипел Макар, а его братан издал резкий, неприятный скрежещущий звук зубами. Бабы насторожились. Потом бросились было к воде, но было уже поздно. Моментально запутавшись в сетях, они казались совершенно беспомощными, только жалобно перекликались и тяжело ворочались, подминая под себя ил и ракушки и запутываясь все основательнее. И как только природа выпускает в свет таких беспомощных созданий?! Макар и Шурик, издавая радостные возгласы индейцев из племени ирокезов, съехали со склона вниз, увлекая за собой песок и камни. Я поспешил им на помощь. Впрочем, помощь моя, похоже, и не требовалась. ...Мне было немного жаль этих глупых баб, я не желал им зла, даже искренне хотел бы, чтобы в сети наши попались не они, а кто-нибудь уродливей и злобней. Перед глазами все еще стояла картинка: как они плескались на мелководье, как беззаботно смеялись... Сейчас из сваленных неопределенной неопрятной грудой сетей, перемешанных с грязью и остатками пищи, с рассыпанными бусами и сломанными дешевенькими браслетами, слышалось только глухое угрожающее ворчание. Макар подошел поближе и, широко расставив ноги в сапогах, вглядывался в этот хаос. Сети рвать не хотелось. Он вздохнул и присел рядом на корточки. Бабы уже и не трепыхались, смирившись, видимо, со своей участью. Только самая маленькая продолжала еще негромко поскуливать, то ли от страха, то ли ногу она вывихнула - кто их там разберет, баб этих?! Шурик первым высвободил свою добычу из сплетения капроновых нитей. - Ути-ути, - заурчал он, щекоча ее, добычу свою, где-то под подбородком, - какие мы сердитые! - баба перестала плакать, закрыла глазки и обреченно приблизила к нему свои губы. - Смотри, смотри! - закричал мне торжествующий Шурик, обретший мир в душе своей и обрадованный этим до чрезвычайности. - В-вот он: Истинт! Я отвернулся. И встретился глазами со второй девушкой. Она уже поднялась на ноги, но не сделала ни малейшей попытки убежать. То ли была в шоке, то ли заранее примирилась со своей участью, то ли, действительно, "Истинт"... Макар между тем возился с толстушкой. Она слабо отбивалась и оттого еще больше запутывалась. Пальцы ее проваливались в скользкие мокрые ячейки. Макар чертыхался. А незнакомка смотрела на меня спокойно, не отрывая от моего лица своих темных, всосавших в себя сумрак глаз. Магия внезапных ночных встреч, все таинственное из которых неизбежно выветрится с приходом дня, коснулась уже меня своим покрывалом... Я поднял смятый, надломленный цветок, придавленный полусъеденной коробкой конфет, повертел в пальцах и протянул ей, этой девушке. Она взяла его неторопливо, со всей своей естественной грацией, едва коснувшись моих пальцев длинными, обломанными о камни ногтями. Что-то перевернулось во мне вместе с этим простым движением, все в этом ее жесте (так мне по крайней мере казалось те несколько мгновений, пока я вглядывался в глубину ее зрачков) выражало скрытое достоинство. Человек просто задумался, оттого он и молчит... Умение говорить вовсе не всегда означает признак ума, господа! Все нужные слова уже сказаны, только мысленно. Вот она медленно поворачивает голову, но все еще косит на меня левым глазом, опускает свое залитое зеленоватым лунным светом лицо так, что вороные, со сливовым отливом пряди ее щекочут нос (он очаровательно неправильной формы), погружают в тень глаза, лоб. Она подносит цветок к лицу, прижимается к нему, грязному и пахнущему теперь разве что тиной - вот так и стоит, неподвижная, как изваяние, застыв в этой безукоризненно выверенной - до нелепости - позе. Что-то подтолкнуло меня. Будто видение какое-то промелькнуло перед глазами. Видение иной жизни, где я в компании со старинными фонарями, со свежим цветочным пучком в руке вожу хороводы возле зеленой бронзовой фигуры и взглядом пытаюсь испепелить свои наручные часы. Это - вроде желания совершить какое-то неведомое жертвоприношение, отказаться от всего прежнего и впустить в свою голову какую-то простую мысль, а в свое сердце - новую связь вещей... Я с удивлением услышал свой голос - то ли взвывающий наподобие зимнего ветра в проводах, то ли скулящий от внезапно сжавшей сердце тоски: