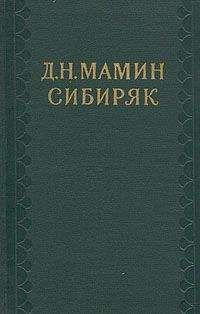Дмитрий Мамин-Сибиряк - Слёзы Царицы
У подножья Кузь-Тау были расставлены надёжные сторожа, а сам Аланча-хан разбил свой стан в долине. Из его палатки видна была вся Кузь-Тау и, лёжа на ковре, он мог видеть всё, что делается на её вершине. Появившиеся на развалинах башни человеческие фигуры казались отсюда такими маленькими, как детские куклы, так что едва можно было отличить мужчину от женщины, и то благодаря только прозрачности горного воздуха.
Вечером весело загорелись огни в стане Аланча-хана, который теперь отдыхал после своих военных трудов и побед. Утомлённая походом стража тоже была рада отдохнуть. Загорелся огонь и на вершине Кузь-Тау, точно волчий глаз. Кругом стояла мёртвая тишина и только перекликались одни лошади, чуждые человеческой ненависти; печально ржали аргамаки с вершины Кузь-Тау и им весело отвечали пасшиеся на зелёной траве ханские лошади.
Аланча-хан весело пировал в кругу своих ратных сподвижников, когда над Чолпан-Тау быстро спустилась тёмная горная ночь.
– - Кто это поёт? -- спрашивал Аланча-хан, прислушиваясь.
– - А это безумный старик Байгыр-хан…
Действительно, это пел Байгыр-хан: он пел свои старые песни об Узун-хане, о старых батырях, кости которых рассеяны по Голодной Степи, о чудных красавицах, уведённых Узун-ханом в плен, о разрушенных городах и невидимо веявшей над всеми смерти. "О, смерть любит храбрых, -- пел Байгыр-хан, -- она не щадит и красавиц, которые проносятся пред нашими глазами, как падающие звёзды… Где стояли цветущие города, там сейчас мёртвая пустыня, а где стоят сейчас цветущие города, там в своё время будет пустыня. Узун-хан, ты много пролил человеческой крови, но тебе не мягче от этого лежать в своей могиле… Последний бедняк и самый великий хан равны в общей судьбе. Жить страшно только людям несправедливым, а смерть любит храбрых… Байгыр-хан ещё раз пришёл на Кузь-Тау и будет ждать здесь, как подлые трусы прольют его кровь. Не умрёт только одна слава худых дел и святые песни, в которых певцы оплакивают свою родину".
Аланча-хан прослезился, слушая песни Байгыр-хана. Горный воздух так чист, что доносил к его уху каждое слово. Задумались и те храбрецы, которые мечтали о военной добыче, засевшей на вершине Кузь-Тау: кто знает, кому придётся вернуться домой живым, а Джучи-Катэм метко стреляет. Пока старик пел свои песни, а соратники Аланча-хана его слушали, Джучи-Катэм, как кошка, спустился с горы. По пути он зарезал заслушавшегося сторожа и вернулся на гору с водой, которую принёс в своей мохнатой шапке.
– - Вот, Кара-Нингиль, и вода, -- с гордостью заявил он, подавая свою мокрую шапку царице, -- а Аланча-хан дурак…
Томившиеся от жажды лошади весело заржали, когда почуяли свежесть принесённой воды. Но Кара-Нингиль не выпила ни одной капли, а отдала свою порцию Ак-Бибэ, которая лежала больная. Джучи-Катэм остатки воды передал Байгыр-хану. Бедным аргамакам так ничего и не осталось, и они смотрели на всех печальными глазами. Кара-Нингиль напрасно ласкала их и давала облизывать мокрую шапку, -- лошади рыли копытами землю и просили воды. Они следили за каждым шагом своих хозяев и призывно ржали, нагоняя на всех смертную тоску.
– - Отпустим лошадей… -- говорила Кара-Нингиль.
– - Ни за что! -- гордо отвечал Джучи-Катэм. -- Это наша последняя надежда, которая умрёт вместе с нами… Если Ак-Бибэ настолько поправится, что в состоянии будет держаться в седле, мы пробьёмся мимо этих ханских ворон, которые умеют только пить и есть.
– - Джучи-Катэм, у тебя железное сердце…
Целую ночь не смыкала глаз Кара-Нингиль и всё сидела на верху старой стены, где любила сидеть ещё маленькою девочкой. Здесь в первый раз заметил её орлиный взгляд Джучи-Катэм, и вот она опять на любимом своём месте, над головой то же небо, там, вдали, та же Голодная Степь, но теперь сама она уже не та и принесла сюда с собой целый ад. Как лошади мучились от жажды, так ещё больше мучилась Кара-Нингиль от своих воспоминаний. И нет той воды, которая утолила бы её душу… Главный виновник всех её несчастий, который из любви к ней готов отдать жизнь, чужд её сердцу уже давно, и её мучит, что он решился умереть за неё. О, безумец Джучи-Катэм, зачем он здесь? А тот, кого выбрало её сердце, кому отдала всё, сторожит её, чтобы насладиться её последним позором… Но этого не будет: Аланча-хан не увидит царицы Кара-Нингиль и не узнает в ней любившую его аячку… Она умрёт в этих камнях царицей, как те храбрецы, которых любит сама смерть. Один раз, всего только один раз раскрылось её девичье сердце, и вот тяжёлая плата за её любовь… А она ещё думала, что царица Кара-Нингиль не походит на других женщин, и что ей чужда слабость. Проклятый день, когда её увидал в первый раз Джучи-Катэм!..
Для осаждённых ночи длинны, как для больных. Несколько раз Кара-Нингиль проведывала лошадей, которые, благодаря ночной прохладе, заметно успокоились, но это был только обман, чтобы они ещё сильнее почувствовали жажду с восходом солнца. То солнце, которое даёт жизнь и движение всему, погубит их всех. Кара-Нингиль тоже мучилась от жажды и прикладывала горевшую голову к холодным камням.
Джучи-Катэм не смыкал глаз и караулил, притаившись за камнем, Ночью всего легче было сделать вылазку сторожившему их врагу, и только усталость, вероятно, мешала сподвижникам Аланча-хана воспользоваться темнотой. К утру Джучи-Катэм овладела усталость и орлиные глаза начали дремать. Только чуткое ухо сторожило каждый звук, и Джучи-Катэм вздрагивал от малейшего шороха в камнях, где гнездились ящерицы и змеи. Утром, когда долина покрылась туманом, небо сделалось серым, а камни точно отпотели, Джучи-Катэм забылся тревожным сном. Он очнулся, когда его шею обняли две тёплые женские руки, -- это была Кара-Нингиль. Она припала к нему своею головкой и горячо поцеловала.
– - Джучи-Катэм, я знаю твоё львиное сердце… -- шептала она, продолжая его обнимать, -- я знаю, что ты всегда любил меня… Но у меня одна к тебе просьба: уходи отсюда и забудь Кара-Нингиль. Я тебя целую, как брата, а моя любовь там, внизу… Дай мне умереть здесь одной, и я умру, как царица.
– - Я счастлив… -- отвечать Джучи-Катэм, -- да, я счастлив, что умру вместе с тобой, моя царица. Если жизнь нас разлучала, то пусть смерть соединит… Да будет благословен тот час, когда глаза мои увидали тебя в этих развалинах!
XII
Проходит день над Чолпан-Тау, проходит другой. Весело пирует Аланча-хан в своей палатке и всё смотрит на Кузь-Тау, на вершину горы, где всё точно умерло. Истомившиеся от жажды лошади не могли больше ржать, и радуется сердце Аланча-хана. Скоро наступит тот желанный час, когда Кара-Нингиль сдастся, и он приведёт её в Зелёный Город своею пленницей и велит её казнить, как Джучи-Катэм казнил Узун-хана. Солнце не должно видеть ханской крови… Веселится Аланча-хан и веселятся с ним его спутники.
Утром и вечером выходит из стана Уучи-Буш и кричит:
– - Эй, вы, вороны, сдавайтесь… Аланча-хан поступит с вами, как велит его ханское сердце. Всё равно, передохнете с голода…
– - Приди и возьми, -- кричит с горы Джучи-Катэм. -- Ты, старый дурак, не стоишь даже того, чтобы тебя повесить.
Ах, как мучились бедные лошади на вершине Кузь-Тау, и как болело за них сердце Кара-Нингиль!.. Они уже теперь не могли ржать, а только стонали, как люди. По ночам они лизали холодные камни, но днём солнце жгло так беспощадно, и лошади просто бесились от жажды и грызли друг друга. Ак-Бибэ лежала, как мёртвая, и всех бодрее чувствовал себя Байгыр-хан. Каждый вечер старик поднимался на вершину стены и здесь пел свои песни.
Прошёл четвёртый день, Аланча-хану надоело ждать, и он ночью велел сделать вылазку, но она кончилась тем, что Джучи-Катэм убил ещё четверых, а остальные бежали. Изнемогавший от жажды Джучи-Катэм чуть не умер от утомления, и Кара-Нингиль ухаживала за ним, прикладывая холодные камни к его голове.
На шестой день умерла Ак-Бибэ. Как страшно мучилась бедная девушка, и как она просила воды, чтобы смочить запёкшийся рот, но воды не было… Ей всё представлялось, что враги делают новый приступ, и она просила убить её, а не отдавать на позор Аланча-хану. Её похоронили в глубоком колодце, который был когда-то вырыт на Кузь-Тау. Джучи-Катэм горько плакал над могилой погубленной Узун-ханом дочери, и это горе придавало ему силы.
– - Не плачь, Джучи-Катэм, -- утешала его Кара-Нингиль, -- Ак-Бибэ счастливее нас… Она больше не мучится. Она не чувствует жажды, позора, болезней, чужой и своей несправедливости.
– - О, да, умереть, скорее умереть! -- шептал Джучи-Катэм, закрывая своё лицо руками. -- И ты, Кара-Нингиль, утешаешь меня?.. Ты -- моё солнце, которое одним даёт жизнь, а других заставляет умирать… Я боюсь только одного: быть несправедливым в последнюю минуту и к себе, и к тебе… Ты -- моя Голодная Степь, с которой я похоронил всё!..
О, как мучилась, как страшно мучилась Кара-Нингиль!.. Стоило ей закрыть глаза, как всё застилалось красным огнём, -- он, этот огонь, пожирал её. Даже ночью не было пощады, и всё небо казалось кровавым, а звёзды смотрели с него страшными огненно-красными глазами. Если лошади так страшно умирали от жажды, то Кара-Нингиль мучилась вдвое, и нравственные муки были тяжелее физических страдании.