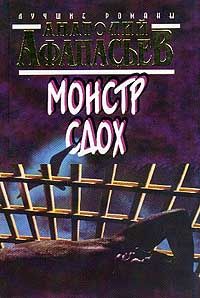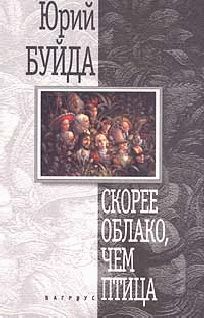Владимир Кораблинов - Прозрение Аполлона
Сверху вниз смотрел Аполлон, с высоты своего замечательного роста. Суетился внизу ничтожный человечек с тонкими кривоватыми ножками, обутыми в грязные солдатские башмаки, с синими обмотками на тощих икрах. Лакированная голова, украшенная бархоткой, смешно, по-птичьи, поворачивалась туда-сюда… И это – демон? Опасный соблазнитель?! От этого дергунчика спасать Ритку с ее мальчишескими драчливыми ухватками, с ее железными кулаками?!
Забывшись, профессор захохотал самым неприличным образом.
– Не так ли? Не так ли? – затрепетал, задергался Рудольф Григорьич.
– Что? Ах да, – спохватился Аполлон. – Простите.
Лебрен опасливо покосился на толстую палку с царским рубликом. Он, будьте уверены, тоже кое-что слышал о Ритином папеньке: опасный будто бы чудак… Чего ржет, спрашивается? Безусловно, типичный представитель буржуазной рутины в своих воззрениях на искусство. Поклонник пошлейших водевильчиков и сентиментальных мелодекламаций: «Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный…» И при всем при том, разумеется, яростный апологет классики. Чего доброго, еще обидится на профанацию (как же можно так уродовать Римского-Корсакова!) да и прибьет… Дубинка-то – ого! На всякий случай разумнее держаться подальше от этого мастодонта…
– Виноват, виноват! – Лебрен внезапно отскочил в сторону, ловко перемахнул через барьер оркестра. – Пульхерия Никосовна! Риточка! Передвигин! Алле! Продолжаем…
Застучал палочкой по пюпитру. Пульхерия трахнула по желтоватым клавишам. Рита взгромоздилась на ящик. Толстый Николай Второй – Передвигин затоптал валенком папироску.
– Ну, сами видите, все в порядке, – шепнул Ляндрес. – Я лично доставлю Риту после репетиции, не беспокойтесь. Так и скажите супруге: Ляндрес лично доставит…
Профессор задумчиво поглядел как бы сквозь Ляндреса. Медленно, аккуратно свернул Лебренову газету и засунул ее в карман.
Он шагал, не разбирая дороги.
Солдатские шинели, хмурое небо, грязный мартовский снег красили город в серое, и это серое – скучное, но и тревожное чем-то – подавляло, обезоруживало, лишало жизнь крепости, жаркой плоти. Превращало ее в нежить, в темь.
Его природа жаждала спора, а спорить было не с кем и не о чем. Все – мелочи житейские. Чепуха.
Лебрен? Пустяк, ничего серьезного. Обезьяна.
Солдатский постой? Уплотнение? Единственная кровать на троих? Ну и что? Подумаешь! Вспомни-ка детство, когда на печке, словно кутята, восьмеро дерущихся, царапающихся, ревущих… Это вот – да, а то тут… Да о чем говорить! И кровать, и морковный чай, и пешее хождение – все это такая чепуха, такая мелочишка, плюнуть, да и только.
Но вот – новые люди, такие, как Ляндрес, как собственная дочь и еще многие, которых не знал, но которые были всюду: в горсовете, в наробразе, в Чека, среди студенчества, до неприличия громко говорящие, странно одетые, в перешитых шинелях, в кожаных куртках, в ватных телогрейках, в красных ситцевых косынках, зачастую с револьверами, красноречиво выпирающими из-под одежи, – люди, вечно куда-то спешащие, что-то такое делающие во всех этих редакциях, студиях, в ячейках…
Может, с ними, с этими новыми-то, и поспорить? Но тут, пожалуй, ничего не выйдет: новое всегда непонятно, с ним не поспоришь, ему не поперечишь.
Была растерянность, потеря душевного равновесия. Шагал профессор, не разбирая дороги. И вдруг:
– Аполлон Алексеич! Аполлон Алексеич! Ах да остановитесь же, батюшка! Вот расшагался-то, не догнать…
Кругленький, румяный, как райское яблочко, коллега, приват-доцент кафедры сельскохозяйственных машин. Некто Благовещенский.
– Здравствуйте, дорогой! Читали?
Размахивает помятым газетным листом, захлебывается.
– Ну, батюшка, башка же, скажу я вам, этот Ленин… Ай хитрец! Ай дипломат великий! Исполать ему!
Профессор поморщился. Он недолюбливал этого пустозвона – «Ах! Ох! Батенька… Исполать!»
– Да, да, – сказал рассеянно, не останавливаясь, на ходу пожимая руку приват-доцента, мысленно посылая его ко всем чертям. – Спешу, простите…
Доцент резво бежал рядом, кудахтал, повизгивал. Что-то насчет приближающегося фронта, насчет того, что «солдатни понагнали»… Что-то насчет уплотнений… «Слышал, слышал и сочувствую, еще бы, целый взвод поставили, ужас!» А у него, у самого Благовещенского, то есть, представьте себе, поселился какой-то их командиришка, какой-то киргиз, представьте себе, слова по-русски не свяжет, всё «якши» да «жолдас» – ужас! Кошмар! А туда же, скотина, к дочке Лизочке подкатывается, нахал, пригласил пройтись и на прогулке давал ей стрелять из своего нагана…
– Да-а, батенька, понагнали войска, понагнали… А еще неизвестно – чья возьмет… Не от хорошей жизни товарищ Ленин пустился на этакие комплименты и посулы по адресу интеллигентов-специалистов… А не поздно ли? – мельтешил, подпрыгивал приват-доцент. – Не поздно ли взывать к интеллигенции-то? Ее, бедную, заплевали, захаркали – дальше некуда, а теперь, когда сами позапутались, когда со всех сторон генералы напирают, – ах, пожалуйте, господа, мы вас очень любим!..
Оглядываясь воровато, гримасничая, хихикал, петушился, пользуясь пустынностью улицы.
– Виноват, – сказал профессор, – мне сюда… Честь имею.
И круто завернул в подъезд с табличкой «Зубной врач И. М. Гительсон», скрылся, оставив озадаченного приват-доцента на улице. Минуту-другую постоял, прижукнув за дверью, затем выглянул, высунул кончик бороды: приват-доцент удалялся, походкой и даже спиной выражая недоумение и обиду.
Когда расстояние, разделявшее их, показалось достаточным, профессор выбрался из спасительного подъезда и, сердито, раздраженно стуча палкой по грязному тротуару, решительно зашагал назад, в центр: вспомнил данное Агнии обещание обязательно повидаться и поговорить с товарищем Абрамовым.
Где-то в глубине душевной шевелилась, беспокойно ворочалась мыслишка, что не надо бы идти в горсовет, просить, жаловаться… В самом деле, войска по всему городу расквартированы, все уплотнены дальше некуда; Коринские, собственно, в данном случае ничем от других не отличаются, но вот Агния…
«Да, Агния, ничего не поделаешь… Агния…»
С товарищем Абрамовым, председателем Крутогорского Совета, профессор встречался не раз, но это все были сугубо деловые встречи: строительство опытного завода, кирпич, тес, транспорт, рабочая сила. Еще – прокладка булыжной дороги от института к городу. Лично для себя Аполлон Алексеич никогда, ни самой малости у Абрамова не просил.
А вот теперь – извольте…
– Тьфу! – сердито плюнул профессор, с трудом протискиваясь в узенькую половинку двери горисполкома. Вторая створка вечно была на шпингалете, и это всякий раз раздражало, и всякий раз он хотел (не без ехидцы) намекнуть товарищу Абрамову, что не мешало бы вход в горисполком расширить, но всякий раз, увлеченный делами, забывал.
Всё было улажено в две минуты. Предгорисполкома повертел ручкой телефона, подул в трубку, покричал кому-то, несколько раз помянул Аполлонову фамилию, еще повертел, еще покричал что-то насчет «известного ученого, профессора», что-то насчет «специалистов, которым надо создавать условия». Аполлон сидел, сердито, смущенно сопя: он страсть не любил, когда его этак величали. Кроме того, ему жарко сделалось – от ходьбы, от неприятного просительного разговора, от чугунной раскаленной докрасна печки в тесном председательском кабинетике. И, как ни удивительно, но в этой тесноте и жаре, да еще в соседстве со щуплым, тщедушным Абрамовым, огромный профессор не только не подавлял своими размерами и быкоподобным ревом, но еще, казалось, и уменьшился вдруг как-то в объеме, а его трубный, площадной голос понизился до обыкновенного, комнатного, с некоторой даже конфузливой спотыкливостью.
– Удивительный же вы человек, Аполлон Алексеич! – не удержавшись, рассмеялся товарищ Абрамов.
Он с любопытством разглядывал профессора, весело поблескивал очками в железной старушечьей оправе, теребил клинышек чахлой бородки.
– У-ди-ви-тель-ный, чудной человек!
– Виноват-с, – насторожился, нахмурился Аполлон. – Не пойму, что же именно вы усмотрели во мне этакого… удивительного?
– Да как же! Почитайте, больше года мы с вами знакомы, сколько раз встречались, и что ни встреча – господи боже ты мой! – громы, молнии, стихии, одним словом… Прошлым летом, когда насчет кирпича приходили – помните? – даже палкой замахивались… Так ведь и думал: ну, прибьет! Струсил даже, ей-богу, струсил! А нынче…
– Нуте? – проворчал Аполлон. – Что – нынче? И к чему это вы про громы-то?
– Да так… Нравитесь вы мне, профессор! Чертовски нравитесь!
– Ну, я, знаете ли, не барышня, чтобы нравиться там или не нравиться, – довольно грубо отрубил Аполлон. – Честь имею-с.
И, злясь на себя за то, что пришел просить, и на Абрамова, что тот заметил его неловкость и даже смущение, шумно, неуклюже поднялся, задел полами шубы, опрокинул стул и, совершенно рассвирепев, тяжело топая глубокими калошами, вышел из кабинета предгорисполкома.