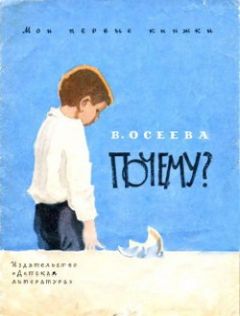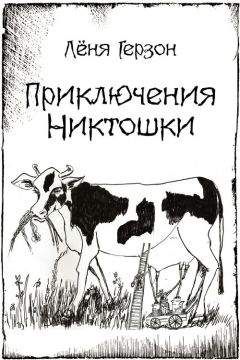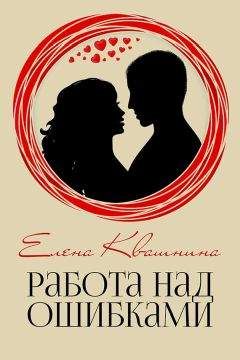Иван Шмелев - Том 7. Это было
– Теперь мне все равно, казначей.
Он не унимался, чудак; он даже топал и грозил кулаками:
– А родина?!! Это же преступно!..
– Родина есть – прекрасное слово, казначей! Она – в хрестоматиях и на устах поэтов! Какие же мы с тобой поэты? Родина… это – отдача жизни. Родина… это любовь до смерти!
– Но ты же герой! ты в «гробу» сидел за эту ро-дину! Я пьян, но чувствую долг… миллионы надо спасать, для родины!
– Родина-родина-родина! – крикнул я, готовый его ударить. – Что есть родина, казначей? Кто из нас знает это?! Это толь-ко сло-во! Молчи, я знаю! видел, казначей!! Там, и там! Что есть родина, казначей? Спроси-ка этих! Аргентина в Туле, Бостон в Минске, Неаполь в Гвадалквивире, а Кальвадос… в Самаре!
– Ты пьян, старина! – плакался казначей, размахивая чемоданом. – Это от «детского дыханья»… Ну, а эти что же? Милорды, а вы что же не в дорогу?!
А что «милордам»! Они уже закусили. Они – стальные. Они даже не дремали. Аргентинка с Греком играли на коленях в «двадцать одно», а Итальянец лежал на диване, как в пансионе, и курил гавану.
Шипел казначей мне в ухо:
– Да уж не мазурики ли они, капитан…
– А документики-то, «высокой цели»!
– Всякие документики бывают… Что-то они тово! Сняли у меня почему-то антресоли…
– Как у официального лица, казначея! Тут прочнее и… безопасней…
Казначей выпучил рачьи глаза, не понимая. Дались ему его миллионы!
– Не к миллионам ли подбирались, да сорвалось! Для меня это совершенно ясно! ясно!!
Я попытался нащупать его мысли:
– А если у них больше твоего, казначей? Если это торговцы самым ходким товаром… кровью?!
Казначей выпучил рачьи глаза, – не понял! – и сказал плаксиво:
– Нет, тебе надо проспаться… Стой! Теперь все ясно! Это их ловушка! это они нарочно угнали машину… тут нечисто!
И он кинулся на Итальянца:
– А вы что же?! С немцами в «железку» хотите, «новой наклядкой»?
– А-а-а… – зевнул в него Итальянец.
А Грек отмахнулся, сонный:
– Ми… истрюкци.
– Поезжай на подводе, казначей… спасай свои миллионы… – сказал я одуревшему казначею. – Не придет машина – останусь. Мне теперь все равно.
Для меня как бы не существовало сути. Не калейдоскоп ли все это, арабески из пустяков стеклянных? А ну, проверим!
Я прилег на кушетку и поманил к себе Аргентинку. Она подошла охотно.
– Ну… – сказала она томно, колыша грудью.
– Прекрасная Аргентинка! – сказал я ей, подавляя желание посадить ее на кушетку. – Вы – из Тулы… Тула есть родина! – крикнул я, овладевая собой.
– Как это… скучно! – протянула она игриво.
Тогда я в бешенстве крикнул:
– Для вас… что есть родина?!
– Тула! – сказала она задорно.
– К черту игру! – крикнул я, сдерживаясь, чтобы не ударить в накрашенные губы-поцелуи, и увидал наклонившуюся ко мне лысину казначея.
Он слушал, навострив ухо. Она впивалась в меня позеленевшими, решительными глазами. Я выдержал этот властный натиск, в котором была и отдающая себя страсть-ласка, и угроза… смертью.
– Я знаю… – Да, я знал это нюхом животного и поручился бы головою! – Я знаю, что вы… про-да-ете родину! Родину-продаете!! – крикнул я ей в лицо, выхватывая наган. – Я могу вас убить! и должен!!.
Я впивался в эти глаза зеленоватой воды… Они не моргнули, не загорелись, не погасли. Они… ласкали! Никто не пошевельнулся. Грек дремал над телячьей ногой. Итальянец курил сигару. Не бред ли это? и это ли я сказал? Это. Я видел по испугу казначея: он открыл рот и показал золотые зубы. А она, Аргентинка? Она смеялась акульими зубами!
Она сказала-швырнула:
– Проспись, мальчик!
Я завертелся на острие, куда швырнула она меня этим – «проспись, мальчик!» Этим цинизмом или… геройством?.. «Тула» выделала таку-ю!! Она убила меня. Смехом акульих зубов и злобой в глазах – убила.
Во мне шевельнулось, укусило меня сомнение.
Я не ошибся тогда. Я же видел, как она выла и извивалась под петлей, как болтался ее шелковый хвост акулий, хвост в клочьях! Это было потом. Но это было!
Да, сомнение меня укусило. И все же – я знал, кто это. В это время взрывались мосты на тылах нашего фронта.
Волной грязи хлестнуло в меня, и я крикнул:
– Прочь, человечья падаль!
Она смерила меня нагло:
– Тише, малёнчик!
Почему я не убил ее в этот миг?..
Во мне взметнулось два чувства: похоть и отвращение. Столкнулись с такою силой, что я обратился в нуль. Я лопнул, сложился, как шапокляк с удара.
– Пропадем! – кричал казначей, – что делать?!.
Он был положительно великолепен. То его вскидывало на гребень, и он закипал пеной: топал на невозмутимых «иностранцев», бил себя в грудь и отдавал кому-то распоряжения. То проваливался в пучину: падал в кресло и бешено растирал лысину салфеткой. Он даже облачился в мундир со шпагой, нацепил ордена и то и дело высовывался в окошко, словно ожидал невесту.
Шум в городке затихал. Пробило полдень. Но казначей не терял надежды: уложил в корзину закуски и бутылки и наказал Зоське хранить квартиру.
– На антресоли! – скомандовал он гостям лихо.
Они и не пошевелились.
– Мы сохраним вам берлогу, дурак лысый! – крикнула Аргентинка.
Казначей поперхнулся, присел и прикрыл лысину салфеткой. Все перевернулось вверх ногами. Сейчас наплюют нам в глаза…
– Вон отсюда, скоты!
Я их выгнал, пригрозив наганом. Этот язык они хорошо знали.
Слышим – идет машина, ревет сиреной, тревожно кашляет: клёк-клёк-клёк…
– Спасение! – завопил казначей, – ура!
Подкатил Сашка под окна, завыл сиреной. Круглая морда – свекла, фуражка на затылке, на груди бутоньерка с жасмином… Не шофер – шафер! Оправдывается-бормочет:
– Виноват, ваше вскородие… Невесту маленько сэвакуи-ровал…
Невесту! Эти, широкоскулые!.. Как мак, горит от стыда: всегда был исправный.
– Рвут мосты по тылам… торопиться надо…
А?!! Теперь – торопиться надо! Погрузил я своего казначея с чемоданом… И развезло же его, – как грязь! А фигура… – пузырь в мундире, при орденах. Крикнул Сашке:
– Вперед! час сроку!! И засверлили!..
VС дороги! всё с дороги!! Гу-гу! клёк-клёк-клёк!..
Полетели возки в канаву. Коровьи хвосты, и визг, и ругань, и пыль такая – пожар! Несокрушим затылок, моя опора – успокоение, недвижны скулы: сиди покойно. Собака ли визгнет – тряпкой летит в канаву, воз ли повалится на крутом – кривом повороте, баба заверещит, прихватывая ребенка, – недвижны скулы, несокрушимо вдумчив затылок; разве только круто вскраснеют уши…
С дороги! всё с дороги!! Гу-гу-у!..
Казначей о бочок бьется, разинув рот: разжал ему золотые зубы вихрь-ветер. Задохся, козырек натягивает, взмолился:
– Пронеси, Господи…
В ногу мою вцепился, посинел с натуги…
Мчит меня бешеный вал на гребне, лих его гон железный, летят со щебнем думы за верстовые столбы… – все ясно. Вон оно, стадо пасется, не зная ни тех, ни этих. Вон она, кроткая даль, – всех принимает лаской. Мчится на нас придорожная береза… Прощай!.. Прощай, старик… Зажимает уши в ужасном реве…
С дороги! всё с дороги! Гу-гу-у-у-у…
Все позади осталось – переселение народов. Пустыня-даль впереди, вольный ветер…
Тревога? Затылок дрогнул… Ходу сбавляет Сашка, остановил машину…
Да что такое?!
Смотрит на меня – Сашка не Сашка: серое лицо бормочет:
– Бензин кончается…
Расстроился с опозданья – в квартире у казначея запасный бидон оставил! Словно ударил в сердце.
– Назад!
– Никак не хватит. Больше двадцати верст покрыли, а бензину и на десять не будет, без подъемов…
И машин позади нету. Что же делать? И вдруг казначей:
– Есть! Знаю!! Где-то госпиталь должен быть, поворот налево…
Смотрю на него: совсем пьяный, и глаза побелели. А он свое:
– В семи верстах, в сторону… госпиталь, как будто…
Путает что-то: ассигновки какие-то, доктор на машине приезжал, в карты звал…
– Есть поворот, – подтверждает и Сашка. – В леса поворот будет.
– Там-то и госпиталь! В лесах экономия… как ее?.. «Звиш-ки» либо… «Звашки»!
– А где госпиталь, там и бензин. А надо торопиться, – настаивает Сашка. – Кругом шпионы напущены. Штабные на станции говорили: важные какие-то усклизнули! Наши, будто, агенты были…
Ахнул казначей. Схватил меня за плечо, задохнулся:
– Вот… говорил!.. Ясно!.. Тихое-то место…
Для меня все теперь было безразлично. Мне открывалась тайна… Помогать жизни?.. Я теперь достаточно подготовлен, чтобы не творить иллюзий… А этот лысый…
– Предпринимай же! – орал на меня казначей. – Нельзя оставить!
Сашка смотрел болваном.
– Иди и возьми! – крикнул я казначею.