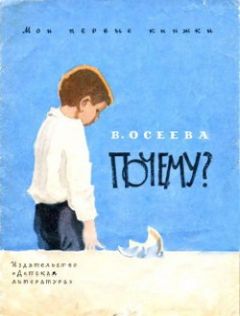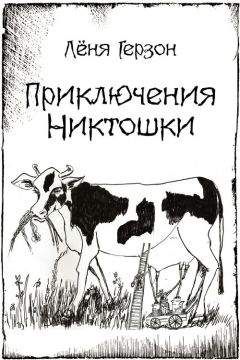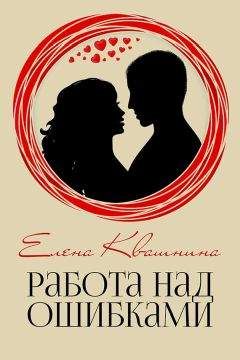Иван Шмелев - Том 7. Это было
– Играй-играй, Мошка… играй веселее!..
Играют до визга весело. Черный страус летает под потолком, фалда казначейская хвостом вьется. Звякает Итальянец брелоками, кажет грязную рубаху из-под малинового жилета. Только Грек усом в стакане ловит.
– Гей-га! – визг цыганский голосом Аргентинки.
Валится казначей – не казначей, – хрипучая перина на диване:
– ффу-ты – ну-ты!.. 3-зу-ди! Маису!
Опять зудят-томят скрипки – несут душу в простор нездешний. Все плывет, все колышется в томных звуках «Молодого Маиса»…
Вы знаете этот танец… в страсти которого пахнет тленом? Танец похоти истонченной, не желающей достижений. Танец все испытавшей плоти, которая жаждет смерти, как наслажденья! Танец совокупившихся змей на трупе! Да, это гнусный танец бессилия и… неутолимой страсти, истомный вопль оголтевшего человечьего стада самцов и самок…
Они плясали, умирали от наслаждения, эти змеи… Теперь я до яркости сознаю, что томило-мутило меня тогда, шептало моей душе: «готовься, скоро». Но это томление покрывалось явью. Уже тогда я – знал! Знал – и орал вместе с лысиной казначейской:
– Зу-ди! брраво!
Аргентинка слилась с Итальянцем… свились, как змеи, в истомном, погружающем в негу танго… безоглядно несущем к смерти. О, этот сладостный гной касаний! Порою мне становилось жутко – до тошноты, я закрывал искушающие глаза, пытался забыть настоящее, порывался пропасть куда-то… И… пропадал. И тогда – тогда плыла на меня в этих томящих звуках панорама…
…Душно. Пахнет теплой лагуной, илом, апельсинной коркой. Подымаются небывающие пальмы в лианах, бананы-столбы с листьями в добрую лодку. Парная, душная от гниющих растений ночь. Душная Аргентина… Вереницы, вереницы людей нездешних. Это все хозяева стад тысячеголовых… От них навозом несет, степями. На пальцах – слепящие корунды, бриллианты, как чечевица. В красных галстухах – изумруды – змеиный глаз. Красной искрой вспыхивают сигары Гаваны. Висят туманные шары-жемчуга в деревьях… Похаживают в цилиндрах, важно, губастые широкобедрые негры в белофланелевых костюмах, с пунцовыми розами в петлицах, с золотыми набалдашинами на палках, водят – ищут сметанными белками, пахнут конюшнями и сигарой, – думают туго свое, ночное. И тысячи, тысячи Аргентинок выкручиваются под молочными шарами, змеями обвивают губастых негров, прижимаются к брюхам скотохозяев, заглядываясь мутнеющими, истомными глазами на бриллианты, захлестывая шелковыми хвостами, заливая удушьем бананов и ванили…..Вот оно, обезьянье семя, плевок Божий!
– О, кабаллеро, о, кабайеро!
Бред… Озорная старка! Она, или это вино в кувшине с печатью сургучной, это «детское дыханье», – вдвинули в комнату с красным, привычным полом приокеанскую Аргентину, с летающими огненными жуками, вспыхивающими от страсти – пфф-пфф?
Больше, больше цветных стекляшек, лоскутьев пестрых, цветистой фальши пьянеющего мозга! Заткните глазеющие дырья трезвеннице святой, проклятой жизни! Смотрит она в меня кровавыми глазами!
– Играй-играй, Йоська… играй веселее!
– Заткните дырья! – слышал я резкий, звенящий крик чей-то.
И вот, душистые пальцы в кольцах закрывают мне рот, с журчаньем:
– О, кабаллеро… о, кабайеро…
На меня смотрит, топит в себе – Аргентинка… Нет, – акула. По-собачьи смотрит, зубками-гвоздиками. Акульей пастью в крови – смотрит, – мелкой костяной пилкой. О, какие чарующие глаза – зеленоватых морских глубин! какое атласно-белое брюхо – шея! Сожри, распили костяною пилкой!
Она тянется, тянется вся ко мне, глазами пьянит меня, протягивает к губам бокальчик…
– Сами настояци… барлиант! – падает с потолка голос.
С неба – голос! Ах, это сонный чревовещатель… Что за милюга-парень! Прямо – дядюшка водевильный. Я вижу горящие глаза Итальянца, крутящиеся волосатые пальцы… Ого, ревнует? Это очень занятно… Отелло в пестром жилете, с похабной панорамкой! А кто же она, из какой пьесы, какого репертуара? Кармен… Юлия… Дездемона… или, как это… еще мировая склока?.. Прекрасная Елена! Маргарита!.. Все вместе же, черт возьми! все вместе! Бабий мираж тысячелетнего человечества, упершийся в… Аргентинку!
О, ты напоминаешь Клеопатру, Юнону, Беатриче… даже Минерву! Она ничего не знает! О, скромница! Она, артистка, – и не знает Беатриче! И лучше! Оставим наивность прошлого пустельгам-поэтам. Это они навязывали Пенелоп многоверных, ожидавших мужей годами… Это они болтали, что бывает любовь до смертного часу! Не понимали они толка в изумрудах и корундах, в ароматах бананов и ванили… Не знали они, младенцы, как чудесно воняет человечьим стойлом!
Она смеялась, прекрасная Жанна д'Арк… Я, конечно, тогда ошибся… Конечно же, Аргентинка! Говорил, что красота ее всемогуща, что она могла бы совершить величайший подвиг… например – Юдифи! или хоть Монны Ванны… Она могла бы сделать гораздо больше, чем все пушки мира… Если бы она была русской крови! Если бы я был поэтом – написал бы о ней величайшую поэму!
Как чудесно она смеялась! Мой язык казался мне мужичьим, а она так прекрасна!
Я пью – чокаюсь с нею, с Греком, с сеньором Казилини. Ведь мы все братья, бьемся общей рукой за правду…
Кричит-скрипит казначей:
– Брось, капитан, антимонию с маслом… Время – деньги!
Лысина казначея крутится над столом, – тасует карты! Что же тут настоящее? что не бред? Эта лысина – настоящее, это из Перми. И это зеленое сукно… А эти, эти?! И опять голос – с неба:
– Вазьмытэ, напрымэрь… циво это?
И эти, запропавшие, золотые у казначея – подлинные, его, или… как? И Грек высыпает золотые! Фу-ты, какая пышность! Почему же нет дожа венецианского? Что еще нужно, какого вина теперь, чтобы дож явился? Да где же суть? Почему Итальянец похож на пса, даже стучит зубами?
– О, кабаллеро… о, кабайеро!
Я вбирал в себя Аргентинку, ее атласно играющую шею, медные волосы и акульи зубки. Сожри! распили костяною пилкой!
Что я кричал?… Да, я кричал казначею, что все это ложь, сплошь подделка, марево, мгла, туман…
– Марево! марево! марево!
Они смеялись. Смеялась даже пермская лысина простака-болвана, у которого таяли золотые. Грек подслеповато мигал гладившей мою руку Аргентинке, тянул сонно:
– Сами настояци барлиант…
Казилини передернул карту, но его поймал казначей и – странно – не рассердился! Только загреб все золото под себя, стукнул кулаком и сказал твердо, молодчина:
– А теперь играй веселей!
И Казилини не рассердился. Всех размягчила старка.
– Я не катель вам наклядка! – кричал Итальянец. – Я катель показиль мадам Мари нови наклядка!
Да кто же они? – спрашивал я себя. – Пермь, лысина – это верное, наше… Но эти, эти?..
– Марево – и все тут! – весело хрипел казначей. – И война, капитан, и все твои ужасы – марево! Настращался в своем «гробу». А ты пей-плюй, не пужайся! Пей, главное дело… Мадам Кабайльеро, правильно?
И вдруг…
– Война скоро кончится, обязательно!
Она сказала? Аргентинка?! Она, так по-московски: «обя-за-тель-но»?! Так что же, наконец, это?! почему – Аргентинка, акульи зубки, духота бананов и ванили?!
Нет, я сброшу эту наваду! Я хватил по столу кулаком и крикнул в этот туман проклятый:
– Да кто же вы, наконец?! Здесь зачем, на красном полу, в паршивом городишке?! У вас бриллианты и золото! изумруды – змеиный глаз! К черту бананы и Аргентину, все ложь!
Они – смеялись! Она, прекрасная, щекотала мне шею теплой медью-шелком, шептала страстно:
– О, кабайеро!
Из ее морских глаз глядела на меня душная Аргентина, ночная тайна летающего огня, влекущая счастьем к смерти.
– Баришни… сладки товар… ряхат-лукум! – сказал Грек. – Война, а тут ты-хо… и ми тут… ты-хо!
И опять глухой голос – с неба:
– Война… скора… фи-фи!
И сонный Грек перекувырнул что-то пальцем. И Казилини сказал, потирая обезьяньи лапы:
– Фи-фи!
И резко свистнул.
Был это миг блаженства: глаза ЕЕ, льющие змеиные чары всех женщин мира! Такой она мне явилась…
Было ли это от ее «ликеров», которые стряпал дьявол, или это бурно вернулась из моего «гроба» покинутая там сила, – не знаю. Великий Соблазн выбрал себе личину – Аргентинку! Она разняла меня по суставам, ядом меня поила, и… странно, я чувствовал в ней родное. Кровь ее рвалась к моей крови, и тогда… тогда я почувствовал в себе – зверя. Она могла бы вести меня за собою на что угодно! Она могла бы стянуть в себя все бесценные камни мира, к ногам повалить все царства! Сгноить и растлить живущего в мире Бога!
Лихо кричала Аргентинка-вакханка:
– Гуляй, кавалер!., трын-трава!
И этот выкрик из публичного дома, этот бульварный вып-левок – «кавалер» – в ее губах, искривленных негой, был тогда для меня, как влюбленный шепот. Хотел бы я, чтобы это повторилось. Нет, не надо. То были впервые крикнувшие во мне «недра». Они вспучиваются в войне, в революции и… когда отравляет самка… Надо убить инстинкты, иначе все небо – к черту! Человеку надо уйти в пустыню и… вновь выйти!