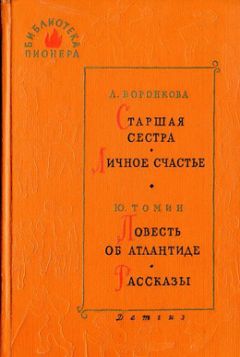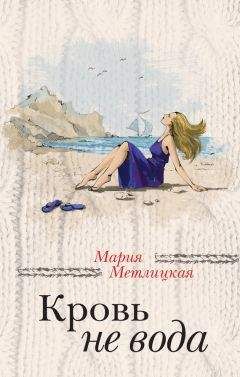Михаил Салтыков-Щедрин - Том 16. Книга 2. Мелочи жизни
И вдобавок в те времена не было речи ни о благонамеренности, ни об образе мыслей, ни о подрывании основ и т. д. Ничего подобного и не подозревали. Просто прислушивались, не плачет ли кто, и ежели до слуха доходило нечто похожее на плач, то поспешали на помощь. «Рекрутство сопровождается несправедливостями и подкупом; повинности выполняются неправильно и беспорядочно; следственные дела представляют картину сплошного взяточничества» — вот и все, о чем тогда говорилось и писалось. Но разве этого мало? Помилуйте! да если бы ко всему этому прибавить еще «неблагонадежность», то вышло бы настоящее вавилонское столпотворение…
Однако ж все-таки оказывалось, что мало, даже в смысле простого утирания слез; до такой степени мало, что нынче от этой хитросплетенной организации не осталось и воспоминаний. Ревизоры приезжали и уезжали; на место их приезжали другие ревизоры и тоже уезжали; губернские чиновные кадры убывали и вновь пополнялись, а слезы все капали да капали… Ныне и платки и урны сданы в архивы, где они и хранятся на полках, в ожидании, что когда-нибудь найдется любитель, который заглянет в них и напишет два-три анекдота о том, как утирание слез постепенно превращалось в наплевание в глаза. Словно белка в колесе, вертелся этот взаимный административный контроль, ничего не защищая и не обеспечивая, кроме форм и обрядов. В результате оказывалось нечто вроде игры в casse-tête[5], где каждая фигурка плотно вкладывается в другую, покуда не образуется нечто целое, долженствующее выполнить из кучи кусочков нарисованную в книжке фигуру, не имеющую никакого значения вне процесса игры. Кончилась игра, надоела; спрятали кусочки в коробку — и будет.
Я слишком достаточно говорил выше (III) о современной административной организации, чтобы возвращаться к этому предмету, но думаю, что она основана на тех же началах, как и в былые времена, за исключением коллегий, платков и урн. К последним административным приемам ныне относятся уже иронически, предпочитая строгость и скорость и оправдывая это предпочтение нарождением неблагонадежных элементов. Но так как закон упоминает о татях, разбойниках, расхитителях, мздоимцах и проч., а неблагонадежные элементы игнорирует, то можно себе представить, каким разнообразным и нежданным толкованиям подвергается это новоявленное выражение.
Впрочем, я отнюдь не хочу утверждать, чтобы нынешняя администрация была плоха, нерасторопна и не способна к утиранию слез; я говорю только, что она, подобно своей предшественнице, лишена творческой силы.*
Не утверждаю также, что так называемые неблагонадежные элементы существуют только в взбудораженных воображениях охранителей. Всякий порядок вещей хранит в своих недрах и споспешествующие элементы, и неспоспешествующие. Первые прозываются — благонадежными; вторым присвоивают наименование неблагонадежных. Все это не только не противоречит истине, но и вполне естественно. Поэтому примириться с этим явлением необходимо, и вся претензия современного человека должна заключаться единственно в том, чтобы оценка подлежащих элементов производилась спокойно и не чересчур расторопно. Недостаточно сказать: вот (имярек) неблагонадежный элемент! — надо еще доказать, действительно ли он неблагонадежен и по отношению к чему.
Может быть, сам по себе взятый, он совсем не так неблагонадежен, как кажется впопыхах. В дореформенное время, по крайней мере, не в редкость бывало встретить такого рода аттестацию: «человек образа мыслей благородного, но в исполнении служебных обязанностей весьма усерден». Вот видите ли, как тогда правильно и спокойно оценивали человеческую деятельность: и благороден, и казенного интереса не чужд… Какая же в том беда, что человек благороден?
Очевидно, что надежда на внешнюю помощь, в смысле удаления терзающих мелочей, навсегда останется тщетною. Все в этом деле зависит от подъема уровня общественного сознания, от коренного преобразования жизненных форм и, наконец, от тех внутренних и материальных преуспеяний, которые должны представлять собой постепенное раскрытие находящихся под спудом сил природы и усвоение человеком результатов этого раскрытия. Исчезновение призраков — вот существеннейшая задача, к осуществлению которой естественно и неизбежно должно прийти человечество, чтобы обеспечить себе спокойное развитие в будущем.
Старинные утописты были вполне правы, утверждая, что для новой жизни и основания должны быть даны новые и что только при этом условии человечество освободится от удручающих его зол. Они наглядно рисовали картины новой жизни, вводили в самые недра ее, показывали ее в полном действии. Влияние утопистов на общество чувствуется и теперь, хотя и до сих пор задача о новых основаниях заставляет метаться человечество в унынии и безнадежности. Жажда жизни пожирает сердца, но, в конце концов, дает очень мало удовлетворения и требует слишком много жертв.
Ошибка утопистов заключалась в том, что они, так сказать, усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли, может создать свое конечное благополучие. Между тем человечество искони связано с природой неразрывной связью и, сверх того, обладает прикладною наукой, которая с каждым днем приносит новые открытия. Фурье провидел ненужных антильвов и антиакул и не провидел ни железных дорог, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели антильвы. Его смущал вопрос об удалении нечистот из помещений фаланстеров, и для разрешения его он прибегнул к когортам самоотверженных, тогда как в недалеком будущем дело устроилось проще — при помощи ватерклозетов, дренажа, сточных труб и, наконец, целого подземного города, образец которого мы видим в катакомбах Парижа. В заключение он думал, что комбинированная им форма общежития может существовать во всякой среде, не только не рискуя быть подавленною, но и подготовляя своим примером к воспринятою новой жизни самых закоренелых профанов, — и тоже ошибся в расчетах. Затем, большинство его последователей было таково, что придерживалось именно буквы учения и, в особенности, настаивало на его подробностях. В результате оказалось явное противоречие с беспрерывно нарастающими жизненными требованиями, а за противоречием последовало недоверие, смех, надругательства. Великие основные идеи о привлекательности труда, о гармонии страстей, об общедоступности жизненных благ и проч. были заслонены провидениями, регламентацией и, в конце концов, забыты или, по крайней мере, рассыпались по мелочам.
Тем не менее идея новых оснований для новой жизни, идея освобождения жизни, исключительно при помощи этих новых оснований, от мелочей, делающих ее постылою, остается пока во всей своей силе и продолжает волновать мыслящие умы. Но к ней прибавилась и еще бесспорная истина, что жизнь не может и не должна оставаться неподвижною, как бы ни совершенны казались в данную минуту придуманные для нее формы; что она идет вперед и развивается, верная общему принципу, в силу которого всякий новый успех, как в области прикладных наук, так и в области социологии, должен принести за собою новое благо, а отнюдь не новый недруг, как это слишком часто оказывалось доныне.
Что история изобретений, открытий и вообще борьбы человека с природой и доныне представляет собой сплошной мартиролог, с этим согласится каждый современный человек, если в нем есть хоть капля правдивости. Железные дороги уничтожают на протяжении своем целую серию промыслов, дававших цветение и жизнь. Села и деревни пустеют; население бежит; дома, дававшие приют массе путников, уныло стоят с заколоченными ставнями; лошади и другой скот сбываются за бесценок; наконец появляется особая категория дотоле неизвестных преступных деяний. Новая ткацкая машина, новый плуг, сенокосилка, жнея — все это угобжает меньшинство и обездоливает целые массы рабочих сил. Конечно, пройдут десятки лет, и массы приобыкнут, найдут новые источники существования, так что, в общем, изменение произойдет даже к лучшему. Но ведь эти десятки лет надо прожить.
И таким образом идет изо дня в день с той самой минуты, когда человек освободился от ига фатализма и открыто заявил о своем праве проникать в заветнейшие тайники природы. Всякий день непредвидимый недуг настигает сотни и тысячи людей, и всякий день «благополучный человек» продолжает твердить одну и ту же пословицу: «Перемелется — мука будет». Он твердит ее даже на крайнем Западе, среди* ужасов динамитного* отмщения, все глубже и шире раздвигающего свои пределы.
Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми.