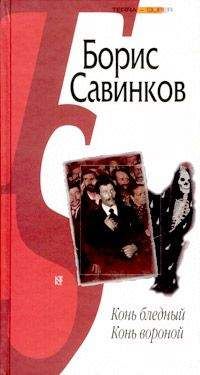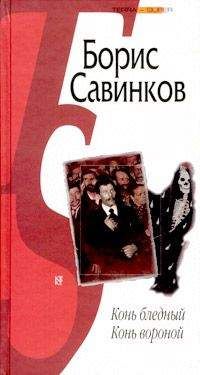В Ропшин - Конь вороной
6 августа
Цветут липы. Земля обрызгана бледно-желтыми, душистыми лепестками. Зноем томится лес, дышит земляникой и медом. Неторопливо высвистывает свою песню удод, неторопливо скребутся поползни в сосновой коре, и звонко в тающих облаках кричит невидимый ястреб. Днем - бестревожная жизнь, ночью смерть. Ночью незаметно шелохнется трава и зашуршит листами орешник. Что-то жалостно пискнет... Жалкий то, предсмертный писк. Я знаю: в лесу опять совершилось убийство.
7 августа
Вреде мне говорит:
- Не то, Юрий Николаевич, не то...
- О чем вы, Вреде?
- О нас, о зеленых... Ну, пусть белые дрянь. Так ведь я от белых ушел... Я думал, что здесь, в лесу, лучше...
- В лесу действительно лучше.
- Лучше?.. А зеленая, а мужицкая тьма? "Педзяки", Антихристы, Ильи Пророки, костры... И, в сущности, всеобщее "вышибай днище"...
- Что же, Вреде, вы за красных теперь?..
Он вспыхивает.
- За красных?.. Как вы можете так говорить? Я хочу честной жизни, я хочу открытого боя. Я офицер. Я не бандит, не разбойник... Ну хорошо. Мы победим, мужики победят... Что дальше? Мужицкое царство?
- Да, мужицкое царство.
- А мы?
Я улыбаюсь:
- Чего вы хотите, Вреде?
Он задумался. Потом медленно говорит:
- Чего я хочу?.. Я хочу, чтобы Мокеичам не рубили пальцев и чтобы Володьки не оставались одни. Я хочу, чтобы не воровали Каплюги. Я хочу, чтобы не было ни "рыжих", ни "лохматых", ни военкомов, ни провокаторов, ни Чека... Я хочу...
Я перебиваю его:
- Вы хотите земного рая...
В лесу лицо его огрубело. Но он все еще хрупкий, похожий на девушку мальчик. Он не может примириться со "злом". Он не знает, что четвертый конь - конь вороной... Он в волнении спрашивает меня:
- За что мы боремся? Объясните.
И я говорю:
- За Россию.
8 августа
Степан Егорыч, Грушин отец, ночью пробрался в лагерь. Я с трудом узнаю его: у него клочьями вырвана борода, один глаз распух и из другого сочится кровь. Федя смотрит, потом говорит:
- Так-с. Стало быть, били в морду, как в бубен... И что это, в самом деле, за люди? И что это за мерзавцы такие? Ей-богу, креста на них нет...
Степан Егорыч вздыхает:
- Ох, многоуважаемый, всех забрали, а нас, стариков, пороть... Говорят: "Деревню сожгем, чтобы и память о ней забылась, а вы, старики, как хотите. Поколеете, туда и дорога". Груша не хотела идти. Схватила топор: "Убью". Ну да где уж?.. Скрутили ее, повезли. Ох, заступись, заступись... Что делать-то? Ох, владычица богородица, пресвятая великомученица Варвара...
Я понял одно, я понял, что арестована Груша.
Я спрашиваю:
- Куда повезли? Во Ржев?
- Во Ржев, многоуважаемый, во Ржев... Через Зубово и Сычевку...
Я говорю Феде:
- Седлай.
Он бросился к стреноженным лошадям. Я жду. Мне холодно. У меня дрожат руки.
9 августа
Я вброд переправился через Взмостю и, не разбирая пути, поскакал к Сычевскому тракту. Я скакал по лесным тропинкам, по оврагам и сжатым полям. Ветви обжигали лицо, шумели листья в ушах. Взмыленный конь храпел, - я вспомнил Голубку. Я бил его до изнеможения нагайкой, я рвал шпорами исхлестанные бока. Он шатался, когда вдали показалась Сычевка. Поздно. В Сычевке не было Груши.
10 августа
Федя ходил во Ржев. Он узнал, что Груша сидит в "Чека". Ее допрашивали, - она не вымолвила ни слова. Ей грозят "пробками" и Москвой. Я знаю, что значат "пробки". Стены, пол, потолок обшиты пробковыми щитами. Нет воздуха, нечем дышать. Человек понемногу теряет разум, теряет силы, теряет волю... У китайцев есть пытка крысой. Живую крысу сажают в кастрюлю. Кастрюлю ставят заключенному на живот. Крыса ищет исхода перегрызает сначала кожу, потом кишки, потом спину, пока не выйдет наружу, пока не изгрызет, не источит до смерти человека... Не детская ли забава костер?
Я не сплю. Трещат кузнечики в соснах. Их треск, сухой и горячий, не дает мне покоя. Я вижу Грушу, ее высокую и белую грудь. Пахнет сеном... Егоров скосил поляну, и у палатки свежие, окропленные росой, копны. "Господи, неужто погибнем?" Нет, она не погибнет. Погибнут те, кто скрутили ее. Погибнут, гады. Погибнут, бесы... Вреде окликает меня в темноте:
- Юрий Николаевич, что делать?
- Как что делать?.. Пойдем во Ржев.
- Но ведь нас всего три десятка...
- Если страшно, оставайтесь, Вреде, в лесу.
Он молчит. Зачем я обидел его? Я ведь знаю: он для Груши первый войдет во Ржев.
11 августа
Нет Груши... Вечером я не слышу ее шагов, утром не вижу ее улыбки. Я не в тюрьме, я в пустыне. Никто не скажет: "Касатик... Соколик..." Никто не рассмеется веселым смехом. Никто не заплачет. Кругом глухая и хмурая ночь - "зверь стоокий".
12 августа
- Ты, Федя, взорвешь мост на Гжати. Вы, Вреде, войдете во Ржев с востока, по московской дороге. Я войду от Сычевки, с юга. Мое дело Чека, ваше - уисполком. Сбор у комендантской команды. Гарнизон небольшой: красные ушли на Калугу, ищут нас под Мещовском. Иван Лукич и Егоров пойдут со мною. Время - 3 часа ночи.
Вот моя диспозиция. Не диспозиция, а безрассудство. Так сказал бы полковник Мейер. Так, конечно, думает Вреде. Я говорю: гарнизон небольшой, но "небольшой" означает человек триста. Мне все равно, потому что нет Груши и еще потому, что "преследуйте врагов, и настигайте их, и не возвращайтесь, доколе не истребите их".
13 августа
Мы взяли Ржев. Мы взяли его на рассвете, когда всходило румяное солнце и в пригородной церкви Николы на Кузнецах звонили к ранней обедне. Убит Мокеич, убит Титов, убит Хведощеня и ранено двенадцать "бандитов". Но город в наших руках. Мы - калифы на час. Где Груша?
14 августа
Груши нет... Я не нашел ее ни в "Чека", ни в уездной тюрьме, ни в казарме. Груши нет... Зачем же я пожертвовал "шайкой"? Зачем же мы брали Ржев?
Вреде докладывает, что красные наступают. Из Москвы идут три дивизии... Три дивизии... Хорошо. Мы уйдем. Хорошо. Мы уйдем без Груши. Я зову Федю:
- Федя, сколько на площади фонарей?
- Не считал, господин полковник.
- Сосчитай. И на каждый фонарь повесь. Понял?
- Понял. Так точно.
15 августа
Я сказал: "Спасайся, кто может", и уже нет "бандитов" и "шайки". Нет никого. Есть отдельные невооруженные люди. Они рассеялись по окрестным лесам. С кем же красные будут драться?
Я верхом ухожу из Ржева. Чего я достиг?.. Вот опять знакомое, столетнее, утомление. Нет, хуже. Позади - опустелый лагерь, впереди... На что надеяться впереди? Запылали деревни вокруг, свищет плеть, трещат пулеметы. Нет конца самоубийственной бойне. Изошла слезами Россия и исчах великий народ.
Вечереет. Красным заревом разгорелась заря и погасла. На прозрачном, бледно-зеленом небе девять черных столбов. Девять повисших тел. Все без шапок, в нижнем белье. Все с открытыми, слепыми глазами. И все качаются на ветру.
За Москву. За Столбцы. За Грушу.
III
3 февраля
Я подхожу к телефону.
- 170-03...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Алло! 170-03? Попросите товарища Ковалева.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Алло! Это ты, Федя?
- Я, господин полковник.
- Осторожнее. Какой я теперь полковник?
Я слышу, как он смеется.
- Бог не выдаст, свинья не съест... Плевать я на них хочу...
- Ну что?
- В Кунцеве. На третьем запасном пути.
- Так... Ну, а ты как живешь?
- Я-то? Скоро за усердие в комиссары произведут... Вчера обыск делал. Саботажника одного из белогвардейцев ловил. Только убежал, проклятущий...
Я вешаю трубку. Итак, поезд в Кунцеве. Мы тоже "саботажники" и "белогвардейцы". Мы взорвем его на этой неделе.
4 февраля
Федя - не Мошенкин, а Ковалев. Он состоит сотрудником "Вечека". Егоров - не Егоров, а Ларионов. Он служит сторожем в "Наркомздраве". Вреде - не Вреде, а Лазо. Он в красной армии, командует эскадроном. У всех троих фальшивые, точнее "мертвые" документы - документы убитых. Все трое в партии - "убежденные коммунисты". Иван Лукич "спекулянт", живет под своей фамилией и держит связь с "Комитетом". Я - без имени, невидимкой, скрываюсь у разных людей. Эти люди, конечно, рискуют жизнью.
Я в Москве. Невозможное стало возможным...
Я могу сказать про себя: "Я день и ночь пробыл в глубине морской, был много раз в путешествиях, в опасностях от разбойников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в труде и в изнурении, часто в бдении, часто в посте, на стуже и в наготе".
Где я теперь? Не снова ли в "глубине морской"?
5 февраля
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе...
А сегодня... Сегодня я не нахожу любимой Москвы. Сегодня мне все чужое. На площадях - казенные "монументы". На вывесках - оскорбительные для русского уха слова. Памятник Марксу. Господи, Марксу!.. И тут же "Наркомздрав"... "Пролеткульт"... "Москвотоп"... "Наркомпрод"... Я иду по Арбату. Сияет зимнее солнце, хрустит под ногами снег. Те же тополи, те же березы, те же задумчивые особняки. Тот же уездный, московский, быт. Но вот загудела, задымила нефтью "машина". Грохот и нахальный свисток. Проносятся "владыки мира сего". "В гору холуй пошел..." Я опускаю глаза. Я не хочу, я не могу видеть их.