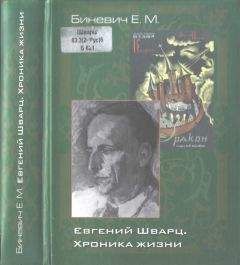Евгений Шварц - Из дневников
22 января
А потом подумал и прибавил: "Пусть его тараканиха удивится".
Есть во всем его существе удивительная беспечность, заменяющая ту воинствующую независимость, что столь часто обнаруживают у гениев. Натан остается самим собой безо всякого шума. Когда принимали в Союз какую-то художницу, Альтман неосторожно выразил свое к ней сочувственное отношение. И Серов, громя его, привел это неосторожное выражение: "Альтман позволил себе сказать: на сером ленинградском фоне" - и так далее. Отвечая, Альтман заявил: "Я не говорил на сером ленинградском фоне. Я сказал - на нашем сером фоне". И, возражая, он был столь спокоен, наивен, до такой степени явно не понимал убийственности своей поправки, что его оставили в покое. Да, он какой есть, такой и есть. Всякий раз, встречая его,- а он ездит в Комарово ловить рыбу,- угадывая еще издали на шоссе его ладную фигурку, с беретом на седых - соль с перцем - густых волосах, испытываю я удовольствие. Вот подходит он, легкий, заботливо одетый (он даже трусы заказывает по особому рисунку), на плече рыболовные снасти, в большинстве самодельные и отлично выполненные; как у многих художников, у него - золотые руки. Я люблю его рассказы - их прелесть все в той же простоте и здоровье и ясности. Как в Бретани жил он в пансионате, вдруг - шум за стеной. За каменной стеной сада, где они обедали. Натан взобрался на стену - все селенье, включая собак, копошилось и шумело возле. Прибой, нет - прилив на этот раз был силен, дошел до самой стены пансиона и, отходя, оставил в ямах множество рыбы. "Тут и макрель, и все что хочешь. И ее брали руками". И я вижу и стену пансиона, и берег. Стал этот незамысловатый случай и моим воспоминанием. Так же, услышав о реке Аа, вспоминаю, как поехал Натан летом [19]14 года на эту речку ловить рыбу. И едва началась война, как пристав его арестовал. "Почему?" А пристав отвечает: "Мне приказано в связи с войной забирать всех подозрительных лиц. А мне сообщили, что вы футурист".
23 января
Альтман со своей ладностью, легкостью, беретом - ощущается мною вне возраста. Человеком без возраста, хотя ему уже за шестьдесят. Козинцев как-то сказал ему: "Слушайте, Натан, как вам не стыдно. Вам шестьдесят четыре года, а вы ухаживаете за девушкой".- "Это ее дело знать, сколько мне лет, а не мое",- ответил Натан спокойно... Как он пишет? Каковы его рисунки? Этого не стану определять. Не мое дело. Я знаю, что он художник, и не усомнился бы в этой его породе, даже если бы не видел ни его декораций, ни книг, ни картин.
28 января
Далее в телефонной книжке идет фамилия, попавшая на букву "А" по недоразумению. Катя думала, что фамилия нашего бородатого, сердитого, безумного и острого комаровского знакомого пишется АРБЕЛИ. Он живет летом в академическом поселке.
28 января
Знакомы сначала, с давних времен, мы были с Тотей, она же Антонина Николаевна - живая, близорукая, привлекательная, скорее высокая, тощенькая. Знали мы, что она альпинистка, искусствовед, умная женщина. Была замужем за историком Щеголевым, овдовела. Я сомневался в ее уме. В интеллигентских кругах возле искусства выработался свой жаргон, и женщины, овладевшие им, легко зачисляются в категорию умных. Особенно их много возле театра, жаргон тут беднее эрмитажного, но зато непристойнее и веселее. Тут женщины, овладевшие им, называются не умными, а остроумными. Попугаи, повторяющие чужие слова, обнаруживаются просто. Но попугаи, схватывающие чужой круг идей, числятся людьми. Поэтому я с недоверием принял утверждение насчет Тотиного ума. Несколько лет назад вдруг вышла она замуж за своего начальника академика Орбели и родила мальчика. Ей было за сорок, мужу за шестьдесят, и вот в этот период жизни познакомились мы с ней ближе, а с Иосифом Абгаровичем - заново. Прежде всего я, не без удовольствия, убедился в том, что Тотя и в самом деле умная. Она любила своего мальчика до полного безумия и однажды определила это так: "Смотрю на пейзаж Руссо. Отличный пейзаж, но что-то мне мешает. Что? И вдруг соображаю: воды много. Сыро. Ребенку вредно". Прелестно рассказала она о собрании в академическом поселке перед его заселением. Собрались будущие владельцы или их жены. В те дни неизвестно еще было - в собственность получат академики дачи или в пожизненное владение. Это особенно волновало членов семьи. И вот, сначала иносказательно, стали выяснять - что будет, так сказать, по окончании владения, если оно только пожизненное. Куда денут иждивенцев? А потом, по мере того, как страсти разгорались, вещи начали называть своими именами. Все академики были живы еще, но ораторши говорили: "Вдовы, вдовы, вдовы". И никого это не пугало. Иосиф Абгарович слегка сутуловат. Огромная седая борода. Огненные глаза.
30 января
Огненные глаза. Одет небрежно, что, впрочем, у академиков и ученых в обычае. Люди, работавшие с ним, вспоминают эти годы с ужасом: трудно объяснить его отношение к тебе на сегодняшний день, и когда произойдет взрыв, угадать нельзя. Он из людей, которым власть необходима органически, без нее им и жизнь не в жизнь. За годы работы своей в Эрмитаже он, словно настоящий завоеватель, распространил власть свою на все залы Зимнего дворца, забрав покои, так называемые исторические комнаты - личные апартаменты царей, и Музей революции. Когда началась война, то он с удивительной быстротой и отчетливостью эвакуировал весь музей - все у него было подготовлено. Славилось его умение выискивать и приобретать картины, пополнять эрмитажные коллекции... Видел, как на премьерах, на торжественных заседаниях появлялся спокойно, по-хозяйски академик Орбели, с большой своей бородищей, с академической шапочкой на редеющих волосах. В Комарове узнал я его поближе. Я сторонюсь людей властных, умеющих раскаляться добела чистой и беспричинной ненавистью. И я особенно остерегаюсь сановных людей. Не чиновников, а знатных людей. Однако вышло так, что стали мы иной раз встречаться. И отчасти потому, что я детский писатель, а Иосиф Абгарович страстно, не меньше, чем Тотя, а может быть, и отчаянней любит сына. И когда тот пошел в школу, академик вошел в родительский совет. И ходил вместе с мальчиком знакомиться к Бианки, когда Виталий жил в Доме творчества. Итак, мы стали иной раз встречаться, и я разглядывал Иосифа Абгаровича с глубоким любопытством. Я, болея, сомневаюсь и, радуясь, сомневаюсь, имею ли я на это право.
31 января
Уверенность в законности и даже обязательности собственных чувств у него доходила до живописности. Были чувства эти сплошь отрицательные. Точки приложения - бесконечно разнообразные. Однажды, например, говорил он с ненавистью о молодой луне. В молодости работал он где-то на раскопках. И в небе в те дни, когда у Орбели были очень тяжелые переживания, стоял точно такой серп. И Орбели возненавидел луну, правда, только в этой фазе. От силы его чувств пострадал однажды целый коллектив. В Москве собирались пересмотреть зарплату эрмитажных работников. Сильно увеличить ее, как только что увеличили в академических театрах. Увидев штатное расписание и новую смету, Орбели обнаружил, что какие-то особо и безумно ненавидимые им сотрудники будут получать более двух тысяч в месяц. И он задержал утверждение нового порядка зарплаты. И весь коллектив пал жертвой его ненависти к двум людям. Вскоре после того, как Иосиф Абгарович придержал увеличение зарплаты, его сняли с директорства. А новый не поднимал этого вопроса, так все и осталось, и два ненавистных сотрудника, а с ними и весь коллектив остались при старой зарплате. Снят с работы Орбели был по причинам стихийного порядка, с его личностью не связанным. Тут я особенно часто встречал его в Комарове - времени-то у него прибавилось. И я оценил его главное и основное свойство - талантливость. Все, что я рассказывал,- мелкие подробности. Пена, брызги, грохот, летят доски - разбило корабль - все это признаки моря. Да, море имелось в наличии. И со всей своей стихийностью и чудачествами Орбели вызывал уважение. Правда, маленький Саша Козинцев, увидев его огромную бороду, разражался каждый раз горьким плачем. Однажды его уговорами и приказаниями заставили поздороваться с Иосифом Абгаровичем. Но едва тот ушел, как мальчик повалился на песок, рыдая. И повторяя: "Мама, ну разве он не ужасный!"
12 февраля
Следующая фамилия уж очень трудна для описания. ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. Познакомился я с ней году в [19]29, но только внешне. Потом, в тридцатых годах, поближе, и только в войну и после перешли мы на ты. Говорить о ней, как она того заслуживает, не могу. Уж очень трагическая это жизнь. Воистину не щадила она себя... Она - поэт. Вот этими жалкими словами я и отделаюсь. Я не отошел от нее настолько, чтобы разглядеть. Но она самое близкое к искусству существо из всех. Не щадит себя. Вот и все, что могу я из себя выдавить. А вот СОФЬЯ АНЬОЛОВНА БОГДАНОВИЧ - другое дело. Теперь это мать двух взрослых дочерей. Одна уже учится в медицинском институте. А когда мы познакомились, ее рассеянность, которая теперь кажется вызванной хозяйственными заботами, представлялась таинственной. Ее светлые глаза смотрели словно бы внутрь себя.