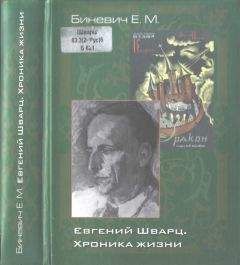Евгений Шварц - Из дневников
12 февраля
Следующая фамилия уж очень трудна для описания. ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. Познакомился я с ней году в [19]29, но только внешне. Потом, в тридцатых годах, поближе, и только в войну и после перешли мы на ты. Говорить о ней, как она того заслуживает, не могу. Уж очень трагическая это жизнь. Воистину не щадила она себя... Она - поэт. Вот этими жалкими словами я и отделаюсь. Я не отошел от нее настолько, чтобы разглядеть. Но она самое близкое к искусству существо из всех. Не щадит себя. Вот и все, что могу я из себя выдавить. А вот СОФЬЯ АНЬОЛОВНА БОГДАНОВИЧ - другое дело. Теперь это мать двух взрослых дочерей. Одна уже учится в медицинском институте. А когда мы познакомились, ее рассеянность, которая теперь кажется вызванной хозяйственными заботами, представлялась таинственной. Ее светлые глаза смотрели словно бы внутрь себя.
13 февраля
Словно сама она не может никак понять, куда ее влечет. И говорила она, словно бы запинаясь, небыстро. Мне казалась она и привлекательной, и чем-то пугала. На руке у нее были красные огромные родимые пятна, словно помечена была она - а какой силой? Правда, отца ее звали Ангел. Ангел Иванович. И мысли подобного рода приходили тридцать почти лет тому назад, а не сейчас, когда встречаю я на лестнице невысокую, озабоченную, пожилую женщину с авоськой в отмеченной красными знаками руке. Около тридцати - двадцать восемь - лет назад встречался я часто и с матерью Софьи Аньоловны, Татьяной Александровной 7. Я с майкопским уважением смотрел на последнюю представительницу редакции "Русского богатства". В соловьевской столовой в книжном шкафу, вделанном в стену, хранились по годам комплекты журнала, частью переплетенные, частью - за последние годы - в голубоватой обложке, как пришли. Но разрезаны были все страницы. Старшие читали журнал с полным доверием и монастырской своей добросовестностью. Воспитывалась Татьяна Александровна у самого Анненского 8, редактора журнала, если я не путаю. Короленко был другом ее. Он часто вспоминал, что Татьяна Александровна, еще девочка в те дни, отказалась пойти на елку, узнав, что он будет читать "Сон Макара" у Анненских. На Татьяне Александровне словно проба стояла, подтверждающая, что она создана из того же драгоценного вещества, как ее товарищи по журналу. Ее общественная работа была и в самом деле работой, а не имитацией. А разговаривать с ней было чистым наслаждением. Однажды увидел я у нее альбом, еще Анненских, кажется, и понял, что шестидесятые годы не литературное понятие, а существовали действительно. Я увидел фотографии студентов в пледах, и стриженых курсисток, и бородатых стариков, покорно сидящих среди бутафорских пейзажей тогдашних фотографий. И о всех она рассказывала.
14 февраля
И простота, с которой все это существовало, и уверенность в том, что оно и есть настоящее, меня ужасно трогали. И вместе с тем угадывал я среди этих бородатых мужчин и стриженых девиц таких, которым это органично, и таких, которые идут за временем. Приспособленцев. По специальности была Татьяна Александровна историк. Она писала в те дни, когда мы познакомились, исторические книжки для детей ("Соль Вычегодская", "Ученик наборного художества") и возглавляла детскую секцию старого, дореформенного Союза писателей. И когда в [19] 29 или [19]30 году появилась в "Литературной газете" статья, нападающая на Маршака и на всю ленинградскую детскую литературу 9, вся тогдашняя секция, во главе с Татьяной Александровной, яростно выступила в бой за Самуила Яковлевича. Вот в те дни и увидел я впервые Софью Аньоловну. Она написала рассказ о ручном ежике, по своим детским воспоминаниям. Ангел Иванович, по наивности и простоте автора, написался отцом столь строгим и вспыльчивым, что мы догадались, за что прозвали его наборщики Черт Иванович. Да, за формой его времени, за бородатыми масками жило и бушевало все то же неистребимое разнообразие человеческих отношений и неизменность или едва заметная изменяемость страстей. Необыкновенно трогательно выглядела дружба Татьяны Александровны и Тарле. Он постоянно встречался мне на лестнице в нашей надстройке. А сама Татьяна Александровна однажды сказала: "Евгений Викторович рассердится, когда узнает, что я выходила сегодня. С тех пор, как вывихнула я руку, он требует, чтобы я сидела дома в гололедицу". И дружба эта продолжалась до самой смерти ее, он все заботился о ней во время войны. А на вечере в ее память столько говорил о ее патриотизме, словно речь шла о ее однофамильце генерале Богдановиче. Вот как изменились формы со времен "Русского богатства". Но человеческие отношения остались трогательными.
8 марта
Дальше в телефонной книжке идет фамилия БИАНКИ. Его я знаю около 30 лет.
9 марта
Вот я вижу себя молодым и легким, не легче, чем теперь, впрочем. Я говорю о весе. Только что выбрался я из болота на дорожку и до того был счастлив по этому поводу, что никуда и не шел, а стоял на месте. Обсыхал. И, как я вижу теперь, всех и уважал и не уважал. Радовался каждому новому знакомству в новой моей среде и на каком-то внутреннем беспощадном измерителе отмечал безжалостно все, что смущало меня в них, в новых знакомых. Я не глядел на показатель этого внутреннего измерителя, но помнил всегда, что он есть. И при неуверенности, так же в глубине - был крайне беспричинно уверен в себе. Скромность моя поддерживалась только одной мыслью, что никто ведь не видит еще, какой я молодец. Бианки я увидел в первый раз у Маршака. Внутренний измеритель отметил сурово, что у этого молодого человека маленькая голова и что-то птичье в круглых черных глазах. Я вежливо поклонился незнакомцу. Он ответил мне отчужденно. "Конечно, он не знает, что я за молодец, но все же надо было бы почтительнее",- подумал я. Но скоро, при дальнейших встречах, первое впечатление рассеялось. Увидел я, что Бианки здоров, красив, прост до наивности. Звание писателя им тогда еще не ощущалось, как теперь, как бы некое призвание. Возник он тогда с первым вариантом "Лесной газеты". И выносил бесконечные переделки как мужчина, натуралист и охотник. Не образовалось у него тормозов, как у Пантелеева и Будогоской. Прост был и здоров. Однажды он тяжело меня обидел. Я стоял в редакции у стола, перебирая рукописи. Вдруг с хохотом и гоготом, с беспричинным безумным оживлением, что, бывало, нападало на всех нас тогда, вбежали Бианки и Курдов. И Бианки схватил меня за ноги, перевернул вверх ногами и с хохотом держал так, не давая вывернуться. Как я обиделся! Долго не мог прийти в себя. Я не был слаб физически, но тут сплоховал. Обидно!
10 марта
А главное - сила показалась мне грубой и недоступной мне по своим границам. Бессмысленное, похожее не то на зависть, не то на ревность неведомо к чему чувство. Не сразу оно прошло. Постепенно я привык и даже привязался к Бианки. Он оказался в том отряде хороших знакомых, у которых не бываешь, которых встречаешь редко, но всегда с открытой душой. Он был прост и чист.
25 июля
Следующая фамилия - КОЗИНЦЕВ, но о нем писать решительно не могу. Сейчас я работаю с ним, и взгляд на него отсутствует. Его изящество. И снобизм, родственный и Акимову, и Москвину, уходящий корнями в двадцатые годы. Самолюбие и отсюда скрытность. Талантливость. Знание настоящее. И все это окрашено его собственным цветом, имеет особую форму. Это его талантливость, его снобизм, его злость. А когда работаешь с человеком, на одно закрываешь глаза, другого не видишь. Я когда-то пробовал писать его, надо будет поискать и вставить при перепечатке. А сейчас спокойно искать форму для рассказа о нем - все равно что подмигивать за спиной товарища, указывать глазами неведомо кому на него. Не получается у меня даже отказ от описания Козинцева.
Следующая фамилия - КОЗАКОВ. Миша Козаков. Об этом трудно говорить по другой причине. Он слишком уж далеко. На том свете. Недавно, на второй или третий день съезда в Доме писателей в Москве мы были на гражданской панихиде по нем. Он лежал высоко, кругом венки, а мы, соблюдая очередь, стояли в почетном карауле. Маленький, красивый, черненький Миша Козаков стал за годы нашего знакомства болезненным, обрюзгшим. Волосы поредели. Ходил он с палкой. И вот увидели мы его мертвым. И проводили на Немецкое кладбище в Москве, до сих пор не по-нашему прибранное. Проводили, полные растерянности,- уж очень сразу он свалился. От больного человека не ждешь конца. Напротив. Столько раз слышал, что ему плохо, и столько раз удавалось ему выжить. И вот вдруг - конец.
26 июля
Искренняя доброжелательность - вещь редкостная, а у Миши Козакова, когда мы встретились в двадцатых годах, сохранялось в этой самой доброжелательности что-то студенческое, особенно привлекательное. Он хотел, разговаривая, понравиться и подружиться. Гонорар получали мы в те годы во втором этаже Дома книги. Гонорар по Детгизу. И тем запомнился мне Козаков в первый раз. Со студенческой любовью к проблемам советовался он - а не написать ли ему детскую книжку об отце и сыне. Сын не уважает отца,- как ему поступить в таком случае? Морща свой чуть покатый лоб и значительно открывая глаза, легонький, хорошенький, сияющий Миша говорил: "Это проблема! Этого не решишь просто!" В это же время напечатал он повесть, где с музыкантшей, старой девой, играющей в ресторане, произошло нечто неприличное, над чем захохотал весь зал, а она заметалась, как мышь. У Миши обнаруживалась решительно склонность к проблемам. Но времена пошли суровые. Лапповцы 10 принялись его школить весьма свирепо. Он сам сказал как-то, выступая на одном собрании, что его, как бобра, гоняют по кругу, чтобы он поседел от ужаса и повысился в цене. И принялся Миша, оставив проблему, за многотомный труд "Девять точек" 11. Со студентом роднила Мишу общественная жилка. Он занимался делами общественными по склонности душевной. И если ему нравилось, что его выбирают, что он в руководстве, то и обязанности свои выполнял он честно.