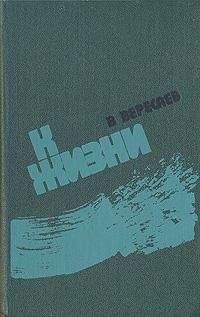Викентий Вересаев - В тупике. Сестры
Длинный мужик с невьющейся бородой ответил угрюмо: – Им-то с чего займаться? Другой добродушно крикнул:
– Добро свое, гражданин, пропиваем! Все одно, пропадать ему!
– С чего пропадать?
– Отберут. В колхозы гонят. Ведерников вскипел:
– «Гонят»! А что же сами вы, – не понимаете, что в колхозах выгоднее?
– Может, милый человек, кому и выгоднее, не знаю того. А нам выгоды нету.
– Как же – нету? Дружно, сообща землю обрабатывать, – ужли же не выгоднее, чем каждому на своей полоске околачиваться?
– А станешь сообща так работать, как на себя? Может, у вас где такие есть люди, а у нас таких не бывает. Взволнованно вмешался третий:
– Коли лошадь моя, я за ней вот как смотрю! Сам не доем, а уж она у меня сытая будет всегда. А в колхозе видал, какие лошади? Со стороны поглядеть, и то плакать хочется: одры! Гонять лошадей все мастера, а кормить никто не хочет.
На широкой площади, с шеренгою ларьков у собора, кипел базар. Но, собственно, не базар это был, а сплошная мясная лавка. Площадь краснела горами мяса, – говядиной, свининой, бараниной. Никогда ребята не видели столько мяса, и чтоб оно было так дешево.
На облучке саней сидел подвыпивший мужик. Из саней торчали красные обрубки ног трех овечьих туш и одной свиной. Мужик, смеясь, рассказывал:
– Все прикончил, теперь – ч-чисто! Можно в колхоз иттить! Городская женщина сказала.
– Жалко, чай, резать было?
Мужик перестал смеяться и отер вдруг намокшие глаза.
– Милая! Как же не жалко? Ведь сам всех выходил. Любовался на них, как на красное солнышко. А ныне вот – что продаю, что сами приели. Никогда столько мужик убоины не жрал, как сейчас. Плачем, милая, – плачем, давимся, а едим! Не пропадать же добру!
Шли ребята к РИКу призадумавшись. Глаза Ведерникова мрачно горели.
В РИКе присутствовали на заседании районного штаба по коллективизации, там получили назначения и директивы. Завтра утром должны были выехать на место работы.
Ночлег им отвели в районном Доме крестьянина. После ужина пили в столовой чай из жестяных кружек. Настроение было серьезное и задумчивое, не то, что вчера в вагоне. С ними сидел местный активист Бутыркин, худощавый человек с энергичным, загорелым лицом.
– Да, – он говорил, – добром с нашим крестьянством до многого не добьешься. Все народ состоятельный, плотники да землекопы, денег на стороне зарабатывали много. Про колхозы и слушать не хотят. Говорят: на кой они нам? Нам и без них хорошо, не жалуемся.
– Так как же вы?
– Поднажимать приходится маленько. Ведерников решительно сказал:
– Правильно!.. Ах, н-негодяи! – Он взволнованно заходил вдоль стола, глубоко засунув руки в карманы. – В колхоз идти, а раньше того, понимать, всю скотину свою порежут! А рабочие в городах сидят без мяса, без жиров, без молока! Расстрелять их мало! Всему государству какой делают подрыв!
Юрка почесал в затылке, улыбнулся.
– Д-да-а… Тут, видно, работа позаковыристей будет, чем даже у нас на заводе ударяться!
Утром ребята по путевкам, полученным в исполкоме, разъехались по назначенным деревням.
* * *Работа закипела. Собирали местных партийцев и комсомольцев, беседовали с ними и сговаривались, организовывали бедноту. Проводили собрания, страстно говорили о выгодности коллективизации, о нелепости обработки жалких полосок в одиночку. И сами опьянялись грандиозными картинами, которые рисовали перед слушателями: необозримые поля без меж, незасоренные посевы, гудение тракторов и комбайнов, дружная работа всех на всех, элеваторы, засыпанные тысячами центнеров зерна. Но весь пыл гас, когда взгляд упадал на слушателей: чуждые, холодные лица и насмешливые глаза.
А потом выступали мужики. Говорить уже все научились, и говорили прекрасно.
– А машины вы нам дадите, – эти самые тракторы и… там еще какие?
– Со временем и машины будут.
– Со вре-ме-нем… Вот ты тогда со временем колхоз и строй!
– Товарищи! Да ведь и без машин… Вы подумайте только: чем каждому на своей полоске, то ли дело – все люди, все лошади дружно будут убирать общие поля!
– Дру-ужно!.. Кто это у тебя там дружно будет работать? Кому до этого дело?
Заговорил крепкий старик; на лице его было три цвета: снежно-белый – от бороды и волос, розовый – от щек и ярко-голубой – от глаз. Он сказал:
– Как это, гражданин, – дружно? Будут работать, как в старое время барщину на господ работали. Да у вас еще, небось, восемь часов работа? По декретам? А коли пашня моя, я об декретах не думаю, я на ней с темна до темна работаю, за землею своею смотрю, как за глазом! Потому она у меня колосом играет!
По всему собранию загудело:
– Правильно!
– А стану я у вас в колхозе так работать? Я буду стараться, а рядом другой зевать будет да. задницу чесать? Как я его заставлю? А что наработаем, на всех делить будете. Нет, гражданин, не пойду к вам. Я люблю работать, не люблю сложа руки сидеть. Потому у меня и много всего.
Ведерников сурово слушал.
– Потому у тебя много, что ты кулак!.. Старик ударил ладонью по столу.
– Нет, я не кулак, я труждающий! Чужой труд никогда не имел! Что есть, все руками вот этими добыл, – я да два сына. Никогда не имел никаких работников, да и ну их к черту, лодырей этих!
В собрании засмеялись.
* * *Ведерников, Лелька и Юрка работали в большом селе Один-цовке. Широкая улица упиралась в два высокие кирпичные столба с колонками, меж них когда-то были ворота. За столбами широкий двор и просторный барский дом, – раньше господ Одинцовых. Мебель из дома мужики давно уже разобрали по своим дворам, дом не знали к чему приспособить, и он стоял пустой; но его на случай оберегали, окна были заботливо забиты досками. В антресолях этого дома поселились наши ребята.
Деревня была крепкая, состоятельная. Большинство о колхозе и слушать не хотело. Из 230 дворов записалось двадцать два, и все эти дворы были такие, что сами ничего не могли внести в дело, лошадей не было, инвентарь малогодный. Прельщало их, что колхозу отводили лучшие луга, отбирали у единоличников и передавали колхозу самые унавоженные поля.
Ребята были мрачны. Лелька печально смотрела из окна антресолей на широкую деревенскую улицу, занесенную снегом, – такую пустынную, такую неподвижную. Вспомнила милый, кипящий жизнью завод свой. Сказала:
– А там, во глубине России, –
Там вековая тишина.
Как эту тишину прошибить, чем всколыхнуть? Ведерников уверенно ответил:
– Прошибем!
До поздней ночи горел огонь в окнах сельсовета. Шло горячее совещание ребят с местным активом и беднотой.
* * *Трехцветный старик (белая борода – розовые щеки – голубые глаза) выбрасывал из лошадиных стойл навоз, когда скрипнула калитка и во двор стали входить приезжие ораторы – Ведерников, Лелька, Юрка и за ними – несколько мужиков-колхозников ихней деревни.
Старик спросил:
– Что надо?
Не отвечая, прошли в избу. Старик обеспокоенно двинулся следом. На лавке сидели два его сына, такие же голубоглазые. Взволнованные бабы стояли у печи.
Пришедшие как будто не видели хозяев, не отвечали на их вопросы и разговаривали только между собою. Юрка сказал Ведерникову.
– Вот домик ладный! Как раз подойдет под ясли и детдом. Оглядели избу, оглядели клети, чуланы и амбары. Ведерников отрывисто сказал:
– Дайте ключи от сундуков и чуланов.
– На что вам? Позвольте, товарищ, узнать, в чем дело.
– Все ваше имущество мы реквизируем. Вы кулак и подлежите выселению. Старик оторопел.
– Выселению?..
Раздался взрыв бабьих рыданий.
– Ба-атюшки! Да что же это?
Мужики стояли бледные.
Зияли раскрытые сундуки, зияли чернотою распахнутые двери клетей и кладовушек. На лавках и на чистом, строганом полу грудой лежали овчины, холсты, новые сапоги, мужская и женская одежа.
Местный пастух, в очень грязных, разбитых лаптях, выкладывал из сундука вещи, изумлялся и встряхивал волосами.
– Ну и добра-а! И откедова столько раздобыли! Старик подошел к Ведерникову.
– Позвольте вам, товарищ, объяснить. Кулак, говорите. Не знаю, как по-новому сказать, а по-старому: вот вам святая икона, – никогда за жизнь свою не имел чужого труда, все с сынами своими горбом заработал.
Мужик в клочковатом полушубке сказал извиняющимся голосом:
– Василий Архипыч, а ведь торговлишкой-то ты занимался!
– Игде?
– Игде! А не бывало так, что по всей деревне холсты закупишь да вместе со своими повезешь в город продавать?
– Нукштож!
– Вот те и «нукштож»! – сурово сказал пастух. – Называется: нетрудовой доход.
Как на пожаре, переливался заунывный бабий вой, похожий на завывание осеннего ветра в трубе. Плакали ребята. Вдруг старуха вцепилась в рукав Ведерникова и закричала: