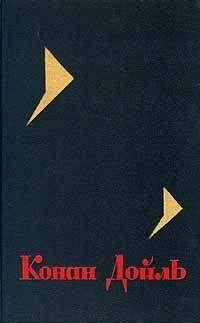Леонид Андреев - Том 2. Рассказы и пьесы 1904-1907
Сергей Николаевич. Да? Это мне нравится, что стулья разговаривают.
Петя. А что тут делается, когда ты уходишь? Вероятно, все поет?
Сергей Николаевич. Оно и при мне поет.
Петя. Труба басом, да?
Сергей Николаевич. А ты слышишь, мой мальчик, что поют звезды?
Петя. Нет.
Сергей Николаевич. Они поют, и песнь их таинственна, как вечность. Кто хоть раз услышит их голос, идущий из глубины бесконечных пространств, тот становится сыном вечности! Сын вечности! — да, Петя, так когда-нибудь назовется человек.
Петя (смеется). Папочка, не сердись: неужели и Поллак— сын вечности?
Сергей Николаевич. Может быть.
Петя. Но он такой нелепый, такой узкий… Ну, ну, я не буду. Сажусь. Какой у тебя здесь воздух — в комнатах такого никогда не бывает. Ты все думаешь?
Сергей Николаевич. Да.
Петя. Ну, думай. Кончено, читаю.
Молчание.
Сегодня ровно три недели, как уехал Лунц.
Сергей Николаевич. Да?
Молчание. Петя читает. Сергей Николаевич выходит из задумчивости и медленно придвигает к себе работу. Работает.
Петя. Первые ночи, когда у меня был жар, я очень боялся рефрактора. Он двигался по кругу за звездой, и когда я снова открывал глаза, он уже успевал немного передвинуться. И мне казалось — не знаю — как будто это один огромный черный глаз… в сюртуке и с фалдочками.
Молчание. Сергей Николаевич откладывает работу и думает, опершись подбородком на руку.
Сергей Николаевич. Петя, ты знаешь, какие стихи написал астроном Тихо Браге по поводу одного инструмента. Это был параллактический инструмент, которым пользовался Коперник во всех своих работах и который сделал он сам из трех деревянных жердочек, ужасно плохой инструмент: у арабов были лучше. Так вот послушай:
Тот, солнцу кто сказал: «Сойди с небес и стой»,
Кто землю на небо, луну на землю вскинул,
И, весь перевернув порядок мировой,
Скреп мира не расторг нигде и не раздвинул,
А проще не в пример представил и стройней
Нам твердь, знакомую по опыту очей, —
Тот муж, Коперник сам, кого я разумею,
Вот эти палочки в простой сложив прибор
И им осуществив столь дерзкую затею,
Законы наложил на весь небес простор,
Светила горния во славе их теченья
Кусочкам дерева ничтожным подчинил,
К самим проник богам, куда со дня творенья
Рок смертным всем почти дорогу возбранил.
Каких преодолеть преград не может разум!
Нагроможденные когда-то Пелион
И Осса с Этною, Олимп с другими разом
Горами многими вотще со всех сторон —
Свидетели тому, что силой тела дикой
Гиганты мощные, но слабые умом,
Не досягнули звезд. Он, он один, великий,
Искавший помощи лишь в разуме своем,
Не мышцы крепкие, а тоненькие жерди
Орудием избрав, — возвысился до тверди.
Каких могучих здесь произведенье дум!
Хотя по существу в нем стоимости мало,
Но золото само, когда б имело ум,
Такому дереву завидовать бы стало!..
Молчание. Внизу музыка — несколько нерешительных и грустных аккордов: «Сижу за решеткой… в темнице сырой…»
Петя (вскакивает). Что это, музыка? Кто же это — там только мама!
Сергей Николаевич (обернувшись). Да. Не Маруся ли?
Петя (кричит). Маруська приехала! Я сейчас, сейчас!.. (Бежит вниз.)
Сергей Николаевич (повторяет). «…Но золото само, когда б имело ум, такому дереву завидовать бы стало!..»
Длительное молчание. На лестнице показываются Маруся и Петя.
Маруся. Не плачь. Что плакать? Пойди к маме.
Петя плачет, сдерживая рыдания.
Пойди, пойди, она одна. Поддержи ее — ты мужчина.
Петя. А ты?
Маруся. Я ничего. Ступай. (Целует его в голову; расходятся.)
Сергей Николаевич. Маруся, милая! Как я рад, что вы приехали. Вы не верите в то, что я могу чувствовать что-нибудь, а я сегодня весь день чувствовал ваш приезд.
Маруся. Здравствуйте, Сергей Николаевич Вы работаете?
Сергей Николаевич. А что Николай? Он бежал?
Маруся. Да. Он ушел из тюрьмы.
Сергей Николаевич. Он здесь?
Маруся. Нет.
Сергей Николаевич. Но он в безопасности, Маруся?
Маруся. Да.
Сергей Николаевич. Бедная Маруся! Как вы устали, вероятно. Сегодня весь день я думаю о вас и о нем, — о вас и о нем. О вас я говорить не смею, но вы — как музыка, Маруся! Я так рад! Позвольте мне поцеловать вашу руку — вашу нежную ручку, которая так много поработала над железными замками и решетками. (Церемонно целует руку.) Садитесь, рассказывайте.
Маруся (показывая на галерею). Пойдем туда.
Сергей Николаевич. Я так рад. Я возьму для вас стул — вы так устали, Маруся.
Выходят.
Ну, садитесь. Здесь, правда, хорошо?
Маруся. Да. Очень хорошо.
Сергей Николаевич. А я сидел здесь с Петей. Он такой милый мальчик! Он в последнее время напоминает мне Николая…
Маруся. Да.
Сергей Николаевич. Но в Пете много женственного, слабого, иногда я беспокоюсь за него. А Николай — он такой энергичный, такой смелый. Как в нем все гармонично и стройно, как нежно и сильно! Это прекрасный образец человека мужественного, редкая, красивая форма, которую природа разбивает, чтобы не было повторений.
Маруся. Да. Разбивает. Я хотела сказать…
Сергей Николаевич. Он пленителен, как юный бог, в нем какие-то чары, против которых нельзя устоять. Ведь его, Маруся, так любят все, даже Анна, — даже Анна. И он так красив! Вам, Маруся, покажется это нелепо: он напоминает мне звездное небо перед зарею.
Маруся. Да. Звездное небо перед зарею.
Сергей Николаевич. Он не мог не бежать, я был уверен в этом. Тюрьма! Что такое тюрьма — эти ржавые замки и трухлявые глупые решетки. Я удивляюсь, как они могли так долго держать его: они должны были улыбнуться и дать ему дорогу, как молодому счастливому принцу!
Маруся (падая на колени, с тоской). Отец, отец, какой это ужас!
Сергей Николаевич. Что, что с вами, Маруся?
Маруся. Разбита прекрасная форма! Отец, разбита, разбита прекрасная форма!
Сергей Николаевич. Он умер! Да говори же!
Маруся. Он… Его покинул разум.
Молчание.
(Вскакивает.) Что же это! Проклятая жизнь! Где же бог этой жизни, куда он смотрит? Проклятая жизнь! Изойти слезами, умереть, уйти! Зачем жить, когда лучшие погибают, когда — разбита прекрасная форма! Ты понимаешь это, отец? Нет оправдания жизни — нет ей оправдания.
Сергей Николаевич. Расскажи мне все.
Маруся. Зачем? Разве можно это рассказать? Чтобы рассказать, нужно понять, — а разве это можно понять?
Сергей Николаевич. Расскажи.
Маруся. Он был моим знаменем. Когда варвары бросили его в тюрьму, я думала: но ведь это варвары, а он — солнце. Я думала: вот сейчас поднимутся все, кто любит его, и разрушат тюрьму, — и снова засияет мое солнце. Мое солнце!
Сергей Николаевич. Как это случилось? Маруся. Как гаснет звезда? Как умирает птица в неволе? Перестал петь, стал бледен и грустен, — но успокаивал меня. Раз только сказал: я не могу понять железной решетки. Что такое железная решетка, — она между мною и небом.
Сергей Николаевич. Между мною и небом.
Маруся. А тут их избили. Да, да. Они подняли бунт в тюрьме. В их камеры ворвались тюремщики и били их — по одному. Били руками, ногами, их топтали, уродовали лица. Долго, ужасно их били — тупые, холодные звери. Не пощадили они и твоего сына: когда я увидела его, его лицо было ужасно. Милое, прекрасное лицо, которое улыбалось всему миру! Разорвали ему рот, уста, которые никогда не произносили слова лжи; чуть не вырвали глаза — глаза, который видел только прекрасное. Ты понимаешь это, отец? Ты можешь это оправдать?
Сергей Николаевич. Говори.
Маруся. И уже тут в нем проснулась эта страшная смертельная тоска. Он никого не упрекал, он защищал предо мною тюремщиков — своих убийц, — но в его глазах росла эта черная тоска: душа его умирала. И все еще успокаивал меня, все еще утешал. И раз только сказал: всю тоску мира ношу я в душе.
Сергей Николаевич. Дальше.