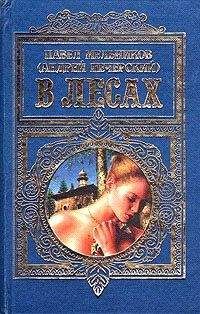Павел Мельников-Печерский - В лесах. Книга вторая
— Никак, матушка, в свахи пошла? — засмеялся Самоквасов. — В каки идешь? В жениховы, в погуби-красу али в пуховые?[213].
— К слову пришлось, сударь ты мой, ПетрСтепаныч, к слову пришлось, потому и сказала, — умильно проговорила мать Таисея. — А в заправские свахи как чернице идти?.. Только вас почитаючи и вашего дядюшку Тимофея Гордеича, наших великих благодетелей, я по глупому своему разуму так полагаю, что, ищи ты, сударь мой, аль не ищи себе хорошей невесты по всему свету вольному, навряд такую найдешь, как Дуняша Смолокурова. Правду тебе сказываю. Девица по всему распрекрасная, кого хочешь спроси… Право, женись-ка на ней, Петр Степаныч! Не вспокаешься!
— Не в примету мне что-то она, — небрежно молвил Самоквасов и неправду сказал.
В часовне всю службу издали на нее зарился и после того не раз взглядывал на красавицу. Думал даже: «Не Фленушке чета, сортом повыше!» Но не заговори про Дуню мать Таисея, так бы это мимо мыслей его и пролетело, но теперь вздумалось ему хорошенько рассмотреть посуленную игуменьей невесту, а если выпадет случай, так попытать у ней ума-разума да приглядеться, какова повадка у красавицы.
— А как же насчет читалки-то? — спросил Петр Степаныч, желая свести Таисею на иной разговор.
— Дело слажено, — ответила мать Таисея. — Готова, сударь мой, готова, седни же отправляется. Так матушка Манефа решила… На отправку деньжонок бы надо, Петр Степаныч. Покучиться хоть у ней же, у матушки Манефы. Она завсегда при деньгах, а мы, убогие, на Тихвинскую-то больно поиздержались.
— Сколько надо? — спросил Самоквасов, раскрывая бумажник.
— Да рубликов бы десятка полтора али два, а если милость будет, так и побольше. Надо справить девицу по-хорошему. Каков дом, такова и обрядня[214], а она вишь в какой дом-от поступает, — прищурясь и с сладкой улыбкой глядя на туго набитый бумажник Петра Степаныча, говорила мать Таисея. Так блудливый, балованный кот смотрит на лакомый, запретный кус, с мягким мурлыканьем ходя тихонько вокруг и щуря чуть видные глазки.
— Извольте получать, — сказал Самоквасов, положив на стол три красненьких и пододвинув их рукой к игуменье.
Быстро с места поднявшись и деньги приняв, отвесила низкий-пренизкий поклон мать Таисея.
— Благодарим покорно, родимый ты мой Петр Степаныч, — заговорила она сладеньким голосом. — Благодарим покорно за ваше неоставление. Дай вам, господи, доброго здравия и души спасения. Вовеки не забудем вашей любви, завсегда пребудем вашими перед господом молитвенницами.
— Сегодня пошлете девицу-то? — спросил Петр Степаныч.
— Сегодня ж отправим, — ответила мать Таисея. — Я уж обо всем переговорила с матушкой Манефой. Маленько жар свалит, мы ее и отправим. Завтра поутру сядет на пароход, а послезавтра и в Казани будет. Письмо еще надо вот приготовить и все, что нужно ей на дорогу. Больно спешно уж отправляем-то ее. Уж так спешно, так спешно, что не знаю, как и управимся…
— Кого отправляете? — спросил Самоквасов.
— А Устинью Московку, коли знаете у Манефиных, — отвечала мать Таисея. — Хорошая девица, искусная, завсегда в хороших домах живала, всякие порядки может наблюдать. Годов никак с пять в Москве у купцов выжила, оченно довольны ею оставались. Худую к таким благодетелям, как вы, не пошлем, знаем, какую девицу к каким людям послать. И держит вокруг себя чистенько, и в беседе когда случится речистая, а насчет рукоделья ее тоже взять. А уж насчет псалтыря нечего и говорить — мало бывает таких читалок. Останетесь довольны, заверяю вас, Петр Степаныч, что останетесь довольны… Так и дяденьке отпишите: хорошую, мол, девицу мать Таисея в читалки к нам посылает.
— Бойка никак она? — заметил Самоквасов.
— Бойка, сударь, точно что бойка, потому что молода, не упрыгалась. Оттого и бойконька, — сказала мать Таисея.
— Это уж завсегда так, до чего ни доведись… Возьми хоть телушку молоденькую — и та не постоит на месте, все бы ей прыгать да скакать, хвост подымя. А оттого, что молода!.. Так и человека взять, сударь ты мой, Петр Степаныч, молодость-то ведь на крыльях, старость только на печи!.. О-хо-хо-хо-хо!.. А вам бы на счет Устиньи, батюшка, не сумлеваться — отведет свое дело, как следует… Потому девушка строгая, ни до какого баловства еще не доходила, никаким мотыжничеством не занималась, а насчет каких глупостей — ни-ни. А молода, так это не беда — молодая-то сносливей да работнее. Старую послать не хитрое б дело, нашлось бы таких и в нашей обители, не стала б я чужим кланяться, да вам-то несподручно было бы с ней. Старому человеку надобен покой, потому что стары-то кости болят, ноют, а в старой крови и сугреву нет. Где старухе годову свечу выстоять. На всяку работу, каку ни возьми, Петр Степаныч, кто помоложе, тот рублем подороже. Так-то, сударь мой, так-то, родной!
— Да я ничего, я только так… К слову пришлось, — молвил Самоквасов. — По мне ничего, что бойка — на молодую-то да на бойкую и поглядеть веселее, а старуха что? Только тоску на весь дом наведет.
— Ой ты, баловник, баловник! — усмехнулась мать Таисея. — Не любишь старух-то, все бы тебе молодых! Эй, вправду, пора бы тебе хорошую женушку взять, ты же, кажись, мотоват, а мотоват да не женат, себе же в наклад. Женишься, так на жену-то глядючи, улыбнешься, а холостым живучи, на себя только одного глядя, всплачешься.
— А воля-то молодецкая, матушка? Разве не жалко с ней расставаться? — бойко, удало сказал Петр Степаныч.
— Холостая воля — злая доля, — молвила Таисея. — Сам господь сказал: «Не добро жити человеку единому». Стало быть, всякому человеку и надобно святой божий закон исполнить…
— А тебя, матушка, взять и всех ваших матерей и белиц… Не исполнили же ведь вы закону, не пошли замуж, — весело усмехаясь, подхватил Самоквасов.
— Наше дело, Петр Степаныч, особое, — важно и степенно молвила мать Таисея. — Мы хоша духом и маломощны, хоша как свиньи и валяемся в тине греховной, обаче ангельский образ носим на себе — иночество… Ангелы-то господни, сам ты не хуже нашего знаешь, не женятся, не посягают… Иноческий чин к примеру не приводи — про мирское с тобой разговариваю, про житейское…
— А может, и я постриг приму, может, и я кафтырь с камилавкой надену? — шутливо промолвил Самоквасов.
— Ох ты, инок! — засмеялась мать Таисея. — Хорош будешь, неча сказать!.. Люди за службу, а ты за те стихеры, что вечор с Патапом Максимычем пел.
— Остепенюсь! Не нарадуешься тогда, на такого инока глядючи, — с громким смехом молвил Петр Степаныч.
— А ты лучше женись да остепенись, дело-то будет вернее, — сказала на то Таисея. — Всякому человеку свой предел. А на иноческое дело ты не сгодился. Глянь-ко в зеркальце-то, посмотри-ка на свое обличье. Щеки-то удалью пышут, глаза-то горят — не кафтырь с камилавкой, девичья краса у тебя на уме.
— Да ты, матушка, в разуме-то у меня глядела, что ли? — с веселой усмешкой промолвил Петр Степаныч.
— Глядеть, сударь, я в твоем разуме не глядела, — ответила мать Таисея, — а по глазам твои мысли узнала. До старости, сударик мой, дожила, много на своем веку людей перевидала. Поживи-ка с мое да пожуй с мое, так и сам научишься, как человечьи мысли на лице да в глазах ровно по книге читать… А вправду бы жениться тебе, Петр Степаныч… Что зря-то болтаться?.. Чем бы в самом деле не невеста тебе хоть та же Дуня Смолокурова? Сызмальства знаю ее, у нас выросла; тихая росла да уважливая; сыздетства по всему хороша была, а уж умная-то какая да покорная, добрая-то какая да милостивая!.. Право слово!..
Бывало, родитель гостинцев к празднику ей пришлет, со всеми-то она, белая голубушка, поделится, никого-то не забудет, себе, почитай, ничего не покинет, все подружкам раздаст. А как стала она подрастать, упросила родителя привозить ей с ярмарки ситчику, холстиночки, платочков недорогих и всех-то, бывало, бедных сирот обделит. Да все ведь по тайности, чтоб люди не знали… Много за нее молельщиков перед господом было… Хорошая девица, хорошая!.. Таких только поискать!
Пришел Семен Петрович. Встал он задолго прежде названного хозяина и успел уж проведать Василья Борисыча. Нашел его в целости: спал таким крепким сном, что хоть в гроб клади.
Мать Таисея, еще раз поблагодаривши Самоквасова за три красненькие, пошла хлопотать по отправке Устиньи Московки.
— Что, Сеня?.. Трещит в голове? — спросил Самоквасов.
— Совсем разломило, — ответил Семен Петрович. — Похмелье хуже лихоманки. Беда!.. С ног даже бьет.
— Не полечиться ли? — молвил Петр Степаныч, доставая из чемодана баклажку.
— Можно, — весело улыбнувшись и потирая руками, сказал Семен Петрович.
— Таисея потчевала меня сорокатравчатой… Дурака нашла, стану я пить ихнюю дрянь, как в баклажке есть еще померанцевая, — смеялся Петр Степаныч, наливая стаканчики.