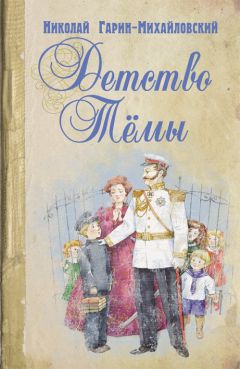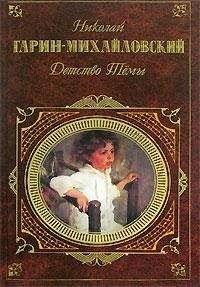Любовь Кабо - Ровесники Октября
11. БУКЕТ СИРЕНИ
Не успел Олег войти в институт - отовсюду кинулись люди, трясли руки. обнимали радостно. Незнакомые ребята, не смея подойти, смотрели издали так, словно Томашевский лично их одолжил своим возвращением. Кто-то хохотал в самое ухо, кричал: "Ну и ну! Размордел - как с курорта!.." Кто-то с силой бил по плечу. Бедный Тимоха с трудом сохранял на лице широкую улыбку - такую, чтоб ее хватило на всех. Возвращались наши ребята. Рассказывали, что не приняли финны протянутую им братскую руку, не оценили миролюбивых усилий советского народа. Рассказывали об обмороженных, о вырвавшихся с трудом из огненного кольца, о подстреленных финскими снайперами на уединенных тропах. Рассказывали, страдальчески расширяя глаза, выдерживая паузы. Тимоша не рассказывал ничего: не желал разыгрывать из себя эдакого севастопольского ветерана с раскуренной трубкой. Он был слишком непосредственен для этого, значительность и поза ему не давались. Он уже жил сегодняшним днем. И как на фронте он удивлялся тому, что необычайное мгновенно становится буднями, бытом, словно бы вовсе и не войной, так сейчас не переставал радоваться, что обычное вот оно, окружает, как прежде, а то, что было на Карельском перешейке, - все это словно и не с ним было, а с кем-то другим, выдумано, вычитано из книжек и газет. Женьки в городе не было. Тимоша, вначале разочарованный этим не на шутку, довольно скоро понял, что так даже лучше, потому что не только можно, но просто-таки необходимо писать. А писать Женьке - это, в сущности, то же, что с самим собой разговаривать, и можно хотя бы в этих письмах отдать себе отчет в том, было с ним в конце концов, что-нибудь или не было ничего. "О войне я говорить не хочу". - писал он и тут же начинал рассказывать. Рассказывал о том. что из восьмисот человек студенческого отряда их осталось едва ли не двести и что, наверное, он заколдован, потому что две пули однажды пробили его ушанку, а шипящий осколок застрял в одежде... Все это с ним действительно было, но упорно не оставляло чувство, что пишет он о ком-то другом. Он перебивал себя: "Довольно об этом..." Довольно, довольно! Шла весна, и звон апрельской капели прошивал Тимошины письма все более отчетливой радостной строчкой. "...Страшные угрызения совести гнетут меня. Здесь, в библиотеке, есть люди, которые занимаются по 12-14 часов. Когда бы я ни пришел, они сидят и не выходят. Женька, ведь это ужасно! Я выбегаю на улицу каждые 2-3 часа. а когда я с виноватым видом возвращаюсь за свой стол. некий беленький старичок поднимает на меня глаза от своего испещренного басурманскими буквами фолианта н глядит на меня укоризненно: "Ну что ты, братец, все шляешься..." Каково было мое смущение, когда я узнал, что это всемирно известный ученый, академик Струве. Вот так ему, человеку, знающему столько языков, сколько ему лет. приходится работать, чтоб быть тем, что он есть. Нет, для науки нужен аскетизм средневековый, доминиканский..." И в этом же письме верный себе Олег писал: "Маришу давно не видел. Она не позволяет себя провожать, потому что я, видите ли трачу на это рабочее время. Подумаешь, рабочее время! И вообще, Женька, мне так грустно. Я давно знаю, что я изрядный кретин, но когда я с нею, я теряю всякий дар речи... А кругом ходят весенние идиоты, улыбаются. Женька, в Москве продают сирень, и громадный букет ее стоит, у меня на столе..." То, что он остался жив - думал об этом Тимоша или не думал, - билось в этом ребячливом парне неистово: его тянуло к интеллектуальным подвигам, он соскучился по шелесту страниц, сосредоточенности и тишине, - и ему в то же время не сиделось на месте. Он проповедовал аскетизм во имя науки н тут же, в том письме, восклицал: "Подумаешь, рабочее время!.." Он был, казалось бы, безнадежно влюблен н никак не мог почувствовать себя несчастным. Женька в своем Бресте искренне веселилась, читая эти письма: она чувствовала себя пожилой, многоопытной женщиной рядом с этим повидавшим виды воякой. И что бы ни писала в свою очередь Маришка, как бы ни терзала сомнениями Тимошиного сердца, - Женька радовалась за обоих, потому что знала свою подругу лучше, чем кто бы то ни было другой: судорожное ожидание писем с фронта изготовило ее к любви верней, чем самые пламенные признания. Все будет хорошо: слишком велико в женственной Маришке желание осчастливливать и любить. А в Москве действительно продавалась сирень, весь город был завален ею. Маришка прямо с порога протянула Тимохе букет, и Тимоха со стоном наслаждения зарыл в нем счастливое свое лицо. Это впервые Маришка согласилась к нему прийти. Он настаивал - она нерешительно, задумчиво качала головой. Оба чувствовали: слишком многое значило бы ее согласие. А потом неожиданно, тогда, когда Тимоша терял уже всякую надежду, она согласилась - так же нерешительно и задумчиво, как отказывалась раньше. Весь город был завален сиренью, - может быть, в конечном счете решило это?.. Тимоша ждал ее и слабел при мысли, что родители как раз на даче и что впервые он остаются с любимой девушкой наедине. Твердо внушил себе: никакими притязаниями не оскорбит, не обманет, не спугнет трогательного ее доверия. Что бы ни значил ее приход никакой пошлостью он его не испортит. Вот таким и встречал ее: в хрустящей рубашечке, выбритым, свежим. Смиренно-счастливым и благодарным. И вот она сидит у него на диване - на том самом месте, на котором он так часто себе ее представлял; совсем рядом с ним этот чистый профиль и нежная улыбка, одно воспоминание о которой обычно сводило его с ума. А он не знает, что делать с этим свалившимся на него богатством: во все те разы, когда Мариша отказывалась прийти, ему почему-то было легче. Дурацкое его смущение, видимо, передалось и ей: опустила ресницы, ждет. Доверилась болвану, милая!.. Олег решил напоить ее чаем - для того хотя бы, чтоб двигаться, чтоб что-то делать. И Маришка тут же вызвалась ему помогать - тоже чтоб что-то делать. Выйти - ей! - на коммунальную кухню? Олег воспротивился решительно, только этого не хватало! Сунул Маришке свою драгоценность. "Жизнь Христа" Ренана с великолепными иллюстрациями, Маришка воскликнула: "Какая прелесть!" Ренана должно было хватить минут на двадцать. Потом пили чай. Олег сидел очень близко к Марише. Она не отодвигалась, и это трогало Олега до слез. И он забыл, что все это пошлость, когда взял ее руку и поднес к губам и вдруг, неожиданно для себя самого, вместо того чтоб целовать, взял ее пальцы в рот, и они затрепетали вдруг, эти пальцы, вырвались и легонько стиснули его полуоткрытые губы. И тогда он не понял даже, а просто ощутил всем своим существом, что она женщина, что она напряжена, и дрожит рядом с ним, и думает о том же. о чем против воли думает и он,- о том, что они совсем одни, что они - любят друг друга. Но счастья почему-то не было. Было так, как бывает, наверное, только в любви и смерти: когда существуют лишь подробности, каждая отдельно, и все в конечном счете определяется ими. Было мучительное сознание, что он мужчина, облеченный правом и властью, и что все эти подробности зависят прежде всего от него. Все предопределено, в сущности, - если ты, конечно, мужчина, - как и тогда, в том прощанье, в том уходе на фронт: все как по нотам. Но он же и был мужчина! Здоровый, девственный мужчина - он весь трепетал и вовсе не понимал уже, что именно делает, в смятении, в напряженности чувств. Если б хоть какое-то сопротивление, которое могло его отрезвить, - может, он и принял бы его как благо. Но неловко прогибающееся в его руках, застенчиво и покорно отдающееся тело - все это сбивало с толку, втягивало, не отпускало. Что-то случилось. Маришка шепнула - впервые шепнула что-то, - умудренно, как мать, как сестра милосердия: - Это - ничего. Ничего!.. Шепот ударил по, нервам. Почему "ничего"? - а что ты, собственно, знаешь? Ничего она и не знала толком, принимала все. Но до Тимоши вдруг все дошло: узенький лифчик, который сам же он аккуратно вывесил на спинку стула, лицо на подушке... Пошлость, пошлость!.. Зачем-то вторая подушка, - кажется, сам и принес из родительской спальни. Какая пошлость - нес ее, обстоятельно выкладывал рядом с первой! Олег дернулся, отбросил Маришкины руки, с силой швырнул вторую эту подушку на пол. В голосе его звучало неподдельное страдание: - Какой ужас!.. Отошел к окну, повернулся спиной, стиснул колотящиеся в нервном ознобе зубы. Грязь, грязь!.. В какую грязь его вовлекли! Надругаться - над такой любовью!.. Нетерпеливо, ненавистнически прислушивался к шорохам за спиной: кажется, одевается. Подошла, нерешительно тронула за локоть: - Может, объяснишь все-таки? Что, собственно, случилось? Дернул плечом. Ничего для нее не случилось! Все ясно, в общем-то, не о чем говорить. Сама должна понимать: ничего больше он говорить не будет. - Я ухожу, Тимоша... Не повернулся. Понимал, что не рыцарственен, не галантен - так это все, кажется, называется. Помилуйте, до галантности ли тут!.. У девицы хватило, слава богу, ума - настаивать не стала. - Там ключи. Поверни. Повернула. Помедлила еще. О господи!.. Хлопнула дверью. Ушла. ... А часы нашей жизни тикали, тикали. Шло наше время, уходило, испепелялось бесследно. Некогда страдать и путать, некогда мучить друг друга. Некогда, некогда!.. Некогда было мальчикам нашим взрослеть.