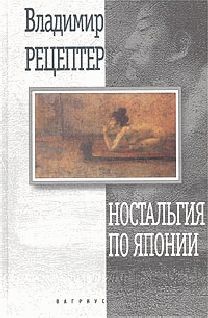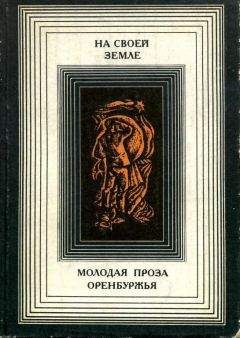Петр Краснов - Понять - простить
— Ты и во Христа веруешь?..
— Верую, — чуть слышно прошептала девочка. — Как же ты смеешь веровать?
— Христос поймет меня и простит.
— Ах ты, стерва, стерва! А почему ты мне вышиваешь?
— Я сказала: по любви.
— За что же ты меня любишь?
Девочка вскочила со стула, упала на колени к ногам Игруньки и, прижимаясь похолодевшими щеками к его телу, чуть слышно проговорила:
— Скажи… Ты великий князь?.. Ты только так… скрываешься?.. Скажи?.. Я никому не скажу.
— Стал бы великий князь такие гадости с тобой делать, как вчера делали. Пьяный по кабакам шататься. С хулиганьем и раклами танцевать?
— Ты нарочно, — прошептала, молитвенно складывая руки, девочка, — ты нарочно… Чтобы не узнали.
— Да почему ты так думаешь?
— Стройный ты… Высокий… И глаза синие. И власть в них страшная. Вчера, когда грузин с кинжалом на тебя кинулся, ты только сказал: гадина!.. И он отошел. Ты великий князь!.. Я знаю…
— Какой же я великий князь?
— Михаил Александрович… Брат Государя, — она всплеснула руками. — Ах, как хорошо это будет! Опять Государь… Служба в церквах. Я в белошвейной, канарейка поет. И я чистая, чистая… Я исповедуюсь, и Бог меня простит…
— Ты русская?
— Да.
— Какой губернии?
— Города Кронштадта.
— Ну, полно болтать глупости. Пой: "Одесса-мама".
Девочка оторвала лицо от ног Игруньки, подняла большие, серые, полные слез глаза и запела тонким, нежным голосом:
Одесса-мама!.. Одесса-мама!..
Я живу совсем не при фасоне,
И семья моя совсем бедна.
Не бываю часто у Франкони,
Чай не пью у Робина.
Одесса-мама!.. Одесса-мама!..
Глупая песня одесских проституток звучала печально, как молитва. Игрунька смотрел на ее маленький пухленький носик со следами пудры и слез, на порозовевшие щеки и слушал. Сквозь стекла окна доносилось мерное рокотание моря, и в щели шел пряный дурманящий запах мимозы.
— Ты — великий князь!.. — прошептала Веруська и опять упала к ногам Игруньки. — Я знаю… Ты нарочно… Скрываешься… А потом Государем будешь… Сохрани тебя Господь!..
VI
В Константинополе Игрунька крупно поговорил со Степаном Леонардовичем из-за неправильного расчета с товарищами.
— Меня обижать можете, — сказал он, — а их не позволю, понимаете?..
Взор был настолько выразителен, что Степан Леонардович доплатил недостающие лиры матросам, но Игруньке пришлось уйти. Он не тужил. Свет не клином сошелся. В магазине случайных вещей он купил себе щегольской штатский костюм, постригся, завился, сделал «маникюр» и проводил целые дни у Токотлиана на Grande rue de Pera.
Его принимали за молодого дипломата.
Деньги приходили и уходили. Откуда приходили? Игрунька затруднился бы сказать. Разно. Бывали удачные ставки на petits chevaux (Лошадки (фр.) — азартная игра), были крупные выигрыши, перепродажи и размены, дарили женщины, богатые гречанки… Случалось по утрам в старом затасканном костюме идти грузить товары на корабли… Было всего. Куда уходили деньги, определить было легче. Уходили на завтраки и обеды, на чашку кофе или порцию мороженого, на женщин и вино.
За морем шла героическая борьба генерала Врангеля за последний кусок русской земли. Она уже не трогала Игруньку. Там были его братья?.. Да, вероятно, были… Там, в армии товарища Фрунзе, мог быть его отец?.. Да — быть. И этого Игрунька не понимал. Чтобы понять это и стать судьей между ними и отцом, надо было прибавить к одной из сторон что-то ценное. И это ценное было: "За веру, царя и отечество". Такой лозунг мог бросить его и на отца, и на братьев… Без него… Пусто было в сожженном сердце, и он подумывал, что хорошо было бы служить, хорошо было бы воевать, опять скакать, рубить, лежать в окопе, сжимая твердыми руками винтовку… Но только… Не против отца.
Когда поляки втянулись в войну с Россией, симпатии Игруньки даже склонялись на сторону отца. Он воевал с «чужими», с врагом России. Но идти к большевикам не мог. И когда приходили раздумья, он гасил их вином и развратом.
Дождливым холодным осенним днем пришли корабли генерала Врангеля. Голодные и умирающие от жажды люди, как скотина, были набиты на палубы. Но их дух был высок, и, когда мимо проходил на катере генерал Врангель, кричали "ура"!.. Махали шапками… И от этого «ура» радостно было на сердце у Игруньки. Видел он, как бледнели лица у французов и англичан.
И думал тогда Игрунька об уроках прошлого, вспоминал профессора Елчанинова и как цитировал он слова Петра Великого:
— "Недорубленный лес вырастает скоро!"
Недорублен был лес и мог вырасти снова, потому что свежи, молоды и могучи были его пни и ждали только теплого весеннего солнца, чтобы пустить побеги.
Игрунька разыскал Олега и поручика де Роберти.
У Токотлиана в углу за круглым мраморным столиком уселись изящный, в черном пальто и мягкой шляпе, Игрунька, Олег в казачьей форме, в шароварах с выцвелым, изодранным лампасом, и де Роберти в потертом английском френче.
Блуждал и прыгал разговор… О Перекопе…
— Нет… Нет… В том-то и дело, что не было настоящих укреплений!.. — говорил Олег.
— Они шли густыми цепями. Артиллерия их косила огнем. Десять, сто на одного, — сказал де Роберти.
— Притом холод, — добавил Олег. — Полку не успели раздать шинелей. Не знаем, кто задержал… В рубашках рваных мы ночью в снопы зарывались, а утром так коченели, что уже не могли подняться… Бровцын убит. Твоего Чернобыльского полка нет. Все теперь сводное… без лошадей, — сказал де Роберти. — Сестра Серебренникова в Польшу подалась.
— Что без лошадей. Почти все без оружия. Говорят, французы отберут и последнее.
— Союзники! — А ты?
— Да как… Тогда, под Курском, узнал от пленных… И замолчал. Смотрел на широкое окно с маленькими
занавесками. В щели занавесок виднелся уличный поток людей, и на каждого десятого прохожего приходилась серая русская или обфасоненная на русский манер желтая английская шинель.
— Что узнал? — насторожился Олег. — Отец там… с ними…
— Да… Знаю, мне Светик говорил. Читал дневник отца. Значит, ты знал?
— Да.
Оркестр из пианино, скрипки, виолончели и окарины наигрывал попурри из "Корневильских колоколов".
— Скитался… Да… Не мог идти против отца.
В моем скитанье,
Много страданья,
Но и взамен,
Что наслаждений,
Любви волнений,
Любовных сцен!
Ах, итальянки,
Немки, испанки
И англичанки,
Словом, весь мир!
К себе манили…
— напел под музыку Игрунька.
Печальны были его глаза.
— Пойдем отсюда… не могу больше, — сказал он.
На улице-лестнице, сотнями выщербленных каменных ступеней спускавшейся к морю, среди старых узких неровных домов, под веревками с навешанным бельем, где пахло бараньим жиром, греческой водкой «мастикой», ладаном и соломенной гарью, где вверх и вниз, вниз и вверх ходили турки и медленные турчанки с лицами, обмотанными черными платками с сетками перед глазами, Игрунька остановился подле кофейни.
— Олег, — сказал он. — Ты ничего не слыхал о маме?
— Мама у Господа…
— Что ты… Скончалась? Тебе писали?.. Откуда ты знаешь?
— Никто не писал… Но знаю.
— Почему?
— Я так чувствую.
— Олег… Нельзя так говорить.
— Почему? Ей лучше.
— Проклятое время, — воскликнул Игрунька… — Все погибло. И церковь погибла, и Бога нет у людей.
Едва шевеля молодыми, потрескавшимися, припухшими губами, сказал Олег:
— Созижду церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее…
Пошел вниз к морю. Игрунька побежал за ним. Де Роберти остался у кофейни.
— Олег… ты… святой… что ли?
— Нет.
— Ты все знаешь… Про маму… от Бога?
— Я чувствую Бога… А ты?
— Нет… Я живу… Ах, Олег… Запоганил я свою душу. Ты и про Лизу чувствуешь?
— Да…
— Что же?
— Не разобрался еще…
— Меня-то прощаешь? — Не мне тебя судить. — Поцелуй меня.
Олег крепко поцеловал Игруньку. — Ты куда? — К своим, на корабль.
Игрунька смотрел, как спускался к пристани с яликами Олег. Он шел, озаренный солнцем, и казалось, над его головой сияет блистающий нимб.
VII
Через четыре дня Игрунька, прожив последние лиры, отправился искать работы и кое-как нанялся steward'ом (Стюардом (англ.)) на пароход «Styria», бывший австрийского Ллойда, реквизированный французами. Капитаном был итальянец, помощником капитана — словенец, commissaire du gouvernement (Комиссар французского правительства, т. е, комендант парохода) — французский лейтенант, и все три полюбили лихого, расторопного, голубоглазого красавца стюарда, носившего такое смешное имя.
— Кускони, — называл его итальянец.