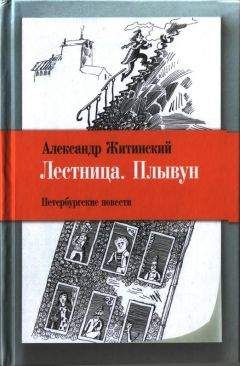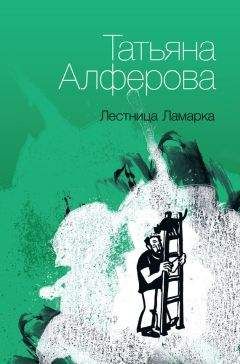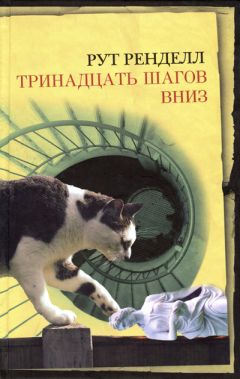Александр Пушкин - Том 6. Художественная проза
Б** несколько времени занимал ее воображение. «Он слишком для вас ничтожен, — сказал ей Минский. — Весь ум его почерпнут из Liaisons dangereuses*#, так же как весь его гений выкраден из Жомини*. Узнав его короче, вы будете презирать его тяжелую безнравственность, как военные люди презирают его пошлые рассуждения».
— Мне хотелось бы влюбиться в P., — сказала ему Зинаида.
— Какой вздор! — отвечал он. — Охота вам связываться с человеком, который красит волоса и каждые пять минут повторяет с упоением: «Quand j'étais à Florence…#» Говорят, его несносная жена влюблена в него; оставьте их в покое: они созданы друг для друга.
— А барон W.?
— Это девочка в мундире; что в нем… но знаете ли что? влюбитесь в Л. Он займет ваше воображение: он так же необыкновенно умен, как необыкновенно дурен; et puis c'est un homme à grands sentiments#, он будет ревнив и страстен, он будет вас мучить и смешить, чего вам более?
Однако ж Вольская его не послушалась. Минский угадывал ее сердце; самолюбие его было тронуто; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если б он мог вообразить бури, его ожидающие, то отказался б от своего торжества, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию.
IIМинский лежал еще в постеле, когда подали ему письмо. Он распечатал его зевая; пожал плечами, развернув два листа, вдоль и поперек исписанные самым мелким женским почерком. Письмо начиналось таким образом:
«Я не умела тебе высказать всё, что имею на сердце; в твоем присутствии я не нахожу мыслей, которые теперь так живо меня преследуют. Твои софизмы не убеждают моих подозрений, но заставляют меня молчать; это доказывает твое всегдашнее превосходство надо мною, но не довольно для счастия, для спокойствия моего сердца…»
Вольская упрекала его в холодности, недоверчивости и проч., жаловалась, умоляла, сама не зная о чем; рассыпалась в нежных, ласковых уверениях — и назначала ему вечером свидание в своей ложе. Минский отвечал ей в двух словах, извиняясь скучными необходимыми делами и обещаясь быть непременно в театре.
III— Вы так откровенны и снисходительны, — сказал испанец, — что осмелюсь просить вас разрешить мне одну задачу: я скитался по всему свету, представлялся во всех европейских дворах, везде посещал высшее общество, но нигде не чувствовал себя так связанным, так неловким, как в проклятом вашем аристократическом кругу. Всякий раз, когда я вхожу в залу княгини В. — и вижу эти немые, неподвижные мумии, напоминающие мне египетские кладбища, какой-то холод меня пронимает. Меж ими нет ни одной моральной власти, ни одно имя не натвержено мне славою — перед чем же я робею?
— Перед недоброжелательством, — отвечал русский. — Это черта нашего нрава. В народе выражается она насмешливостию, в высшем кругу невниманием и холодностию. Наши дамы к тому же очень поверхностно образованы, и ничто европейское не занимает их мыслей. О мужчинах нечего и говорить. Политика и литература для них не существуют. Остроумие давно в опале как признак легкомыслия. О чем же станут они говорить? о самих себе? нет, — они слишком хорошо воспитаны. Остается им разговор какой-то домашний, мелочной, частный, понятный только для немногих — для избранных. И человек, не принадлежащий к этому малому стаду, принят как чужой — и не только иностранец, но и свой.
— Извините мне мои вопросы, — сказал испанец, — но вряд ли мне найти в другой раз удовлетворительных ответов, и я спешу вами пользоваться. Вы упомянули о вашей аристократии; что такое русская аристократия. Занимаясь вашими законами, я вижу, что наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у вас не существует. Кажется, между вашим дворянством существует гражданское равенство и доступ к оному ничем не ограничен. На чем же основывается ваша так называемая аристократия, — разве только на одной древности родов? — Русский засмеялся.
— Вы ошибаетесь, — отвечал он, — древнее русское дворянство, вследствие причин, вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего состояния. Наша благородная чернь, к которой и я принадлежу, считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха. Я скажу, например, — продолжал русский с видом самодовольного небрежения, — корень дворянства моего теряется в отдаленной древности, имена предков моих на всех страницах истории нашей. Но если бы я подумал назвать себя аристократом, то, вероятно, насмешил бы многих. Но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древние роды их восходят до Петра и Елисаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники. Говорю не в укор: достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожников, денщиков, певчих и дьячков спесь герцога Monmorency#, первого христианского барона, и Клермон-Тоннера. Мы так положительны, что стоим на коленах пред настоящим случаем, успехом и…, но очарование древностью, благодарность к прошедшему и уважение к нравственным достоинствам для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу историю. Но едва ли мы вслушались. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди или балами двоюродной сестры. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.
. . . . . . . . . .
«В начале 1812 года…»*
В начале 1812 года полк наш стоял в небольшом уездном городе, где мы проводили время очень весело. Помещики окрестных деревень обыкновенно приезжали туда на зиму, каждый день мы бывали вместе, по воскресениям танцевали у предводителя. Все мы, т. е. двадцатилетние обер-офицеры, были влюблены, и многие из моих товарищей нашли себе подругу на этих вечеринках; итак, неудивительно, что каждая безделица, относящаяся к тому времени, для меня памятна и любопытна.
Всего чаще посещали мы дом городничего. Он был взяточник, балагур и хлебосол, жена его — свежая веселая баба, большая охотница до виста, а дочь стройная меланхолическая девушка лет 17-ти, воспитанная на романах и на бланманже…
. . . . . . . . . .
«На углу маленькой площади…»*
Глава I
Votre coeur est l'éponge imbibée de fiel et de vinaigre.
Correspondance inédite.#На углу маленькой площади, перед деревянным домиком, стояла карета, явление редкое в сей отдаленной части города. Кучер спал лежа на козлах, а форейтор играл в снежки с дворовыми мальчишками.
В комнате, убранной со вкусом и роскошью, на диване, обложенная подушками, одетая с большой изысканностию, лежала бледная дама, уж не молодая, но еще прекрасная. Перед камином сидел молодой человек лет 26-ти, перебирающий листы английского романа.
Бледная дама не спускала с него своих черных и впалых глаз, окруженных болезненной синевою. Начало смеркаться, камин гаснул; молодой человек продолжал свое чтение. Наконец она сказала:
— Что с тобою сделалось, Валериан? ты сегодня сердит.
— Сердит, — отвечал он, не подымая глаз с своей книги.
— На кого?
— На князя Горецкого. У него сегодня бал, и я не зван.
— А тебе очень хотелось быть на его бале?
— Нимало. Черт его побери с его балом. Но если зовет он весь город, то должен звать и меня.
— Который это Горецкий? Не князь ли Яков?
— Совсем нет. Князь Яков давно умер. Это брат его, князь Григорий, известная скотина.
— На ком он женат?
— На дочери того певчего… как бишь его?
— Я так давно не выезжала, что совсем раззнакомилась с вашим высшим обществом. Так ты очень дорожишь вниманием князя Григория, известного мерзавца, и благосклонностию жены его, дочери певчего?
— И конечно, — с жаром отвечал молодой человек, бросая книгу на стол. — Я человек светский и не хочу быть в пренебрежении у светских аристократов. Мне дела нет ни до их родословной, ни до их нравственности.
— Кого ты называешь у нас аристократами?
— Тех, которым протягивает руку графиня Фуфлыгина.
— А кто такая графиня Фуфлыгина?
— Наглая дура.
— И пренебрежение людей, которых ты презираешь, может до такой степени тебя расстроивать?! — сказала дама, после некоторого молчания. — Признайся, тут есть и иная причина.
— Так: опять подозрения! опять ревность! Это, ей-богу, несносно.
С этим словом он встал и взял шляпу.
— Ты уж едешь, — сказала дама с беспокойством. — Ты не хочешь здесь отобедать?