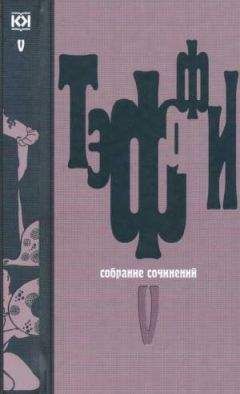Юрий Домбровский - Обезьяна приходит за своим черепом
Его так и смело с места.
- Черт знает, что вы себе позволяете! - крикнул он и ударил кулаком по креслу. - Вы в самом деле, наверно... - он раздраженно щелкнул себя по лбу. - Да я вас под суд отдам!
И он почти выбежал в коридор.
А дня через три ко мне в больницу явился Ланэ.
Он пришел в то время, когда я после обхода задремал у открытого окна в сад. Просто я вдруг проснулся и увидел, что он стоит и трогает мое плечо. Я поглядел на него, увидел утомленное, скорбное лицо, печальный взгляд, сиреневые, медлительные веки, и хотя он, видимо, желал казаться бодрым, веселым и добродушно-ворчливым, но с первого же взгляда я понял, что пришел-то он совсем с другим, и, конечно, не ошибся.
- Вы воюете с ветряными мельницами, Ганс? - спросил он печально и ворчливо. - Валяйте, валяйте. Что сейчас не хватает нашей стране, это - Дон Кихота.
Я смолчал.
- Вот одна мельница сломала вам ногу, а вам все мало. Хотя прокурор и грозит вас привлечь еще и за клевету и этого сейчас никак не докажешь, но я имею все основания считать, что эту сумасшедшую выпустили специально для того, чтобы она произвела что-то экстраординарное, вроде вот этого выстрела. То есть не то что ее специально готовили именно для выстрела в вас, но что-то подобное она должна была им выполнить. А девчонку вы знаете: избалованная, изверчен-ная, а может быть, и в самом деле сумасшедшая дрянь, которая только ждала случая, чтобы вырваться и явить себя свету в полном блеске. Поэтому, когда ее выпустили и сказали: "Иди, спасай мир!" - она пошла, ни о чем больше не думая.
Он говорил возбужденно и горячо. Видимо, все то, что произошло, действительно задевало его за живое, и я понимал почему. Поджигатели войны - это равнодушные, солидные, а часто даже усталые люди. Они работают энергично или вяло, медленно или быстро, веруя или - это гораздо чаще ровно ни во что не веря, но без одержимых им ровно ничего не сделать. Им надо иметь свою Шарлотту Корде или, на худой случай, хотя бы своего Ван дер Люббе - сумасшедшего, обуреваемого всеми бесами разрушения, ненависти, страха или истеричной любви, - за торгаша-ми-то ведь никто не пойдет, - и вот они по всему миру ищут этих несчастных, ибо безумные необходимы им, как фитиль у пороховой бочки.
Я спросил:
- И она выступит свидетельницей на моем процессе?
Он пожал одним плечом:
- Возможно. Что же, в конце концов, и это возможно. Но вот вопрос: нужно ли допускать до процесса? Сейчас вас осудят почти наверняка, а через год эта история будет забыта настолько плотно, что вы сможете вернуться и даже станете героем дня. Уверяю вас, надо подождать! Вот!
И тут он полез в карман и вынул билет до Парижа на самолет. Он говорил про этот билет долго, многословно, очень убедительно и под конец уже, явно сердясь на мою глупую молчаливую несговорчивость, прибавил:
- И, наконец, дело не только в вас одном. Если вас не будет здесь, мы месяца через три поднимем шум и добьемся ликвидации постановления прокуратуры. Но представьте, что будет, если вас осудят за клевету в печати и за подстрекательство к убийству. Вычислите, сколько это будет стоить нашей газете! А ведь вы ее не хотите губить, правда?
Но я еще не все уяснил себе и поэтому спросил:
- Но ведь мне не разрешено спускаться даже в сад, так как же я выйду из больницы?
Он слегка поморщился ("Что за дурная манера уточнять все до последней запятой!") и недовольно ответил:
- Не делайте из себя слишком большой птицы, Ганс. Не такой уж вы крупный государствен-ный преступник, да, кроме того, и королевский прокурор ваш добрый приятель. Ну же?
И он твердо положил портмоне на мою подушку.
- С богом, желаю приятной поездки!
Потом вдруг выхватил часы, посмотрел на них и сказал:
- И надо торопиться. Самолет вылетает через час. Сестра вас проводит в сад, и там наш секретарь даст вам пальто и ботинки.
- Значит, королевский прокурор уже не только мой, но и ваш добрый знакомый? - спросил я, не двигаясь.
Наверное, в моем голосе пробивались какие-то особые интонации или шеф вообще привык не доверять моему настроению, но только он вдруг очень встревожился, слез с кресла и сел прямо на край моей кровати.
- Ганс, Ганс, вот я вижу, вы опять стали мудрить, - сказал он почти умоляюще. - Ради бога, не надо! Ничего хорошего вы своим осуждением не достигнете, только погубите газету - вот и все. Хоть в этом-то мне поверьте! - Он схватил меня за руку. - Вы знаете, я не болтун и всегда точно знаю, о чем говорю. Вчера мне сообщили, что уже даны указания о подборе соответ-ствующих судебных прецедентов для составления нового закона о печати. Что, не верите? Да тот же самый адвокат Гарднера и составляет его. Неужели не понимаете, что вы просто погубите газету, если дадите себя осудить? Вам надо уехать - вот и все!
Но я остался в больнице, хотя возможно, что шеф мой и был прав. Может быть, газету закроют после суда и моего осуждения. Ну и дьявол с ней, с этой газеткой, как и с моим шефом, как и с королевским прокурором, как и с той безумной, которая сидит сейчас в психиатрической больнице и опять лихорадочно читает газеты, подыскивая себе по ним новую жертву! Ведь она отлично знает, что ее опять скоро выпустят. Я остался еще потому, что, мне кажется, мое осуждение раскроет кому-то глаза. Я остался потому, что все происходящее в мире и в моей маленькой стране как части этого мира толкает меня на серьезнейшие размышления и вот уже мне некуда от них скрыться. Мое сегодня так похоже на мое вчера, что, познав его, я уже не сомневаюсь в том, каким будет мой завтрашний день. Я уже пережил этот завтрашний день сопливым мальчишкой и сыт им по горло. Но тогда мне было легче, потому что я ровно ничего не понимал, я не понимал, из каких корней выросла война и кто в ней виновен, не понимал, кто такой я, кто такой Ланэ, кто Гарднер, кто Крыжевич. А теперь я это знаю и хочу об этом рассказать всем. Я рассказал вам о своем отце, человеке, который любил говорить много и красиво и погиб, об участи его друзей и сына. Да минует же их участь, добрые люди, вас, ваших детей и ваших жен! Уверяю вас, добрые люди, заполняющие зал судебного заседания, что все происходящее - это отнюдь не только одно осуждение невинного или сведение личных счетов правительства с неугодным ему журналистом, это даже не удушение вашей свободы, нет, это много страшнее: это новое покушение на вас самих, это тот топор, который завтра же опустится на вашу голову, револьвер, который убийцы тайком суют в руки вашего ребенка. О, если бы вы, прочитав мою книжку, подумали над тем, что происходит перед вашими глазами! О, если бы вы только хорошенько подумали над всем этим!
Алма-Ата 1943 - 1958